Ползя, упасть нельзя
Трагикомическая история графа Хвостова — главного графомана пушкинской эпохи
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Чудодей и табачница
Июльской ночью 1757 года в доме на Вознесенской улице города Петербурга родился будущий Сизиф русской поэзии, Дмитрий Иванович Хвостов. Детские и юношеские годы прошли благополучно: потомок знатного и богатого рода, Хвостов ни в чем не испытывал недостатка и учился у лучших педагогов. Был он очень робок и нелюдим. «Когда я стал достигать отроческих лет, то холодный нрав, любовь к уединению, застенчивость, медлительный успех в учении заставляли многих обо мне то же заключать, что и заключали о Буало родственники его... — вспоминал поэт. — Телесные способности вовсе природою мне отказаны были: танцовщик я был самый плохой, также лет пять был в манеже, но с таким малым успехом, что редко садился на коня, кроме Пегаса».
 С. С. Щукин.
Портрет Д. И. Хвостова.
Первая половина XIX в.
С. С. Щукин.
Портрет Д. И. Хвостова.
Первая половина XIX в.
Учитывая сомнительную репутацию Хвостова как поэта, сравнение его себя с титаном французской и мировой литературы Никола Буало кажется чересчур смелым. Однако его первые литературные опыты были действительно удачны. Так, в 1779 году пьеса Хвостова «Легковерный» добралась до подмостков придворного театра и оказалась так хороша, что сама императрица изволила досмотреть ее до конца (чего не скажешь о его высочестве Павле Петровиче, который ушел сразу же). Среди других ранних произведений Хвостова исследователь творчества поэта Илья Юрьевич Виницкий упоминает комедию «Помешательство в женитьбе», показанную в Москве в 1775 году, и загадочную «Историю о жизни пчел», которая, по словам самого Дмитрия Ивановича, осталась в рукописи. Некоторые его ранние творения можно найти в седьмом томе собрания сочинений, изданном в 1834 году. Они кажутся слишком тяжеловесными даже для поэта-классициста, которым считал себя Хвостов. Вот, например, отрывок из «Молитвы» (1779):
К Тебе, о Творче мой, всечасно вопию:
Скончай всемощный Бог мучение сердечно,
Или мне суждено страдать, терзаться вечно?
Иль взоры отвратил создатель от меня?
Рыдая, кончу ль жизнь на свете я стеня,
И в скорби я своей не видя утоленья
В могилу ниспущусь от лютого мученья.
В юности Хвостов подолгу жил в Москве у родителей, однако городской суете предпочитал сельскую романтику и плеск волн любимой реки Кубры. Рядом с ней, недалеко от Переславля-Залесского, находилось родовое имение Хвостовых с веселым названием Выползова слободка. Неслучайно литературовед Александр Евгеньевич Махов назвал это место «топографическим символом хвостовской поэзии»: Дмитрий Иванович гордо именовал себя «певцом Кубры» и посвящал милому сердцу берегу велеречивые оды. Из стихотворения «Реке Кубре»:
Кубра! ты первая поила
Меня пермесскою водой,
Младое чувство возбудила
Прельщаться греков простотой.
Я на брегу твоем высоком
Всегда спокойным сердцем, оком
Ловил природы красоты;
Не знал кумиров зла, ни мести,
Не зрел рабов коварства, лести,
И собирать хотел цветы.
Иногда поэт превращал мирный водоем в бушующую стихию, готовую уничтожить любого врага. Из стихотворения «Кубре. 1812 года»:
Река, мной к славе приученна,
Теки, как прежде ты текла,
Но коль, войною возмущенна,
Желаешь быть причиной зла,
Стигия хладного струями
Клубись пред лютыми врагами,
Будь им рекою роковой!
Дерзай! Ненасытиму врану
Внеси глубоку в сердце рану
И гнусный труп в волнах сокрой!
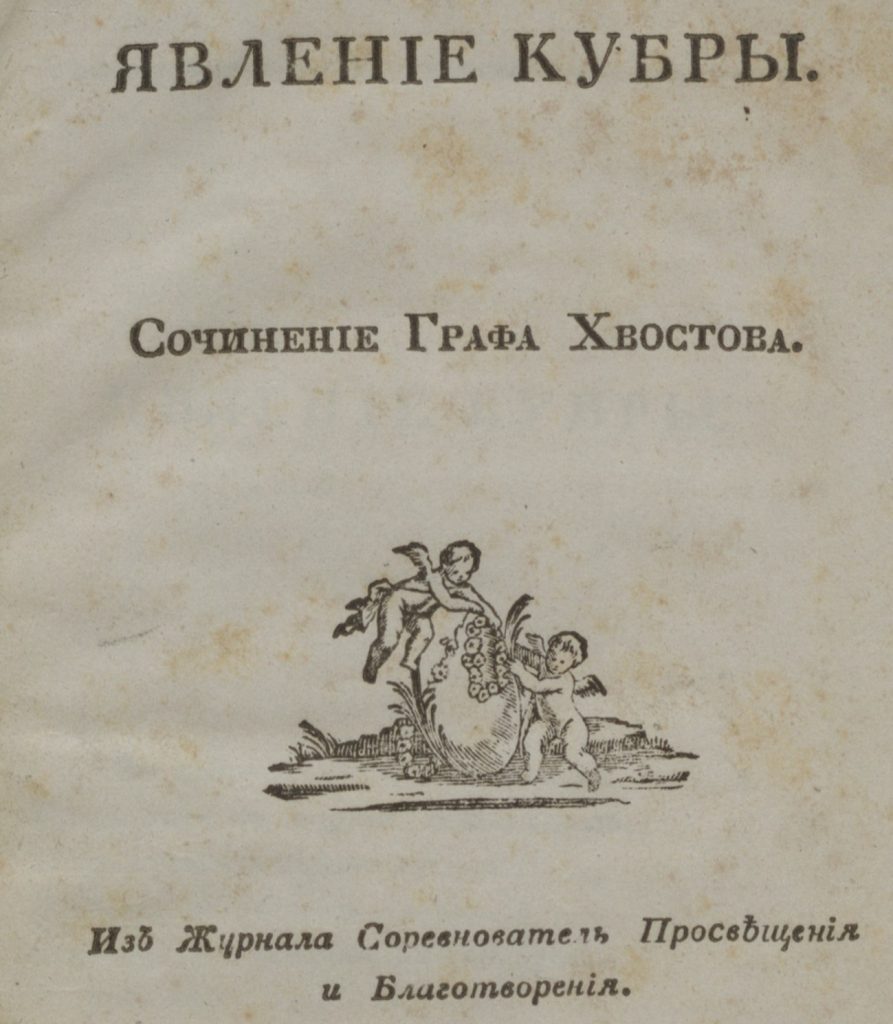 Фрагмент обложки книги со стихотворением Д. И. Хвостова «Явление Кубры»,
1824
Фрагмент обложки книги со стихотворением Д. И. Хвостова «Явление Кубры»,
1824
Карьера Дмитрия Ивановича складывалась удачно. После нескольких лет, проведенных в имении, он переехал в Петербург и получил должность в Сенате. На личном фронте все шло не так гладко. Мемуарист Филипп Филиппович Вигель вспоминал, что Хвостов «в первой и в последующих за нею молодостях, лет до тридцати пяти слыл... богатым женихом и потому присватывался ко всем знатным невестам, но они отвергали его руку». Впрочем, неудивительно: по словам того же Вигеля, Хвостов «имел характер неблагородный, наружность подлую и наряд всегда засаленный».
В 1789 году Дмитрий Иванович наконец женился. Его избранницей стала племянница Суворова Аграфена Ивановна Горчакова. Удачная партия имела свои минусы. Вигель ядовито замечал, что Горчакова «едва ли не столько славилась глупостию, как дядя ее Суворов — победами», а кроме того, отличалась «примечательной нечистоплотностью». «Неопрятность обоих супругов была баснею Петербурга, — вспоминал Вигель. — Кажется, сам он [Хвостов] никогда не умывался, а в комнатах его, подобных хлевам, до того дышало заразительным воздухом, что мефетизм (с фр. méphitisme — «зловоние». — Прим. Л. Е.) стали знать под названием хвостивизма».
Поэт Александр Федорович Воейков вообще отправил обоих супругов в «Дом сумасшедших»:
Вот картежница Хвостова
И табачница к тому ж!
Кто тошней один другого,
Гаже кто — жена иль муж?
Оба — «притча во языцех»:
Он под масть ей угодил:
Кралю трефовую в лицах
Козырной холоп прикрыл!
Это зубоскальство глубоко возмутило «петербургского старожила», писателя Владимира Петровича Бурнашева, который в книге «Наши чудодеи» (1875), скрываясь под псевдонимом Касьян Касьянов, писал, что у Воейкова «ложь и обман были прирожденными качествами». Хвостовых Бурнашев назвал «четой добрых, хотя и карикатурных, Филемона и Бавкиды». Но и он подмечал у них некоторые причуды. Например, у Аграфены Ивановны было очень странное и дорогое хобби: устройство чужих свадеб за собственный счет. «...в ее доме... бывали балы и вечера, которые нередко представляли собою свадебные пиршества, на которых богатая, щедрая и благодушная графиня в пудре, кружевах, блондах, атласе и бархате была, как она выражалась по своему, „mère assée“... т. e. посаженною матерью», — рассказывал Бурнашев. Слабый французский супруги Дмитрия Ивановича стал еще одним поводом для шуток. «Графиня Хвостова во всем Петербурге славилась своим специальным французским языком, — читаем в „Чудодеях“, — который она умела так удивительно уродовать...» А ведь это было непростительной оплошностью для дамы из высшего общества, где «незнание французского языка считалось чем-то вроде уголовщины».
 Герб Хвостовых
Герб Хвостовых
Но Хвостов обожал свою супругу и нередко упоминал ее в стихотворениях под именем Темиры. Например, в «Позднем взывании к музе» читаем:
Не могут звуки громкой лиры
Томимый скорбью дух согреть,
Коль нет со мною здесь Темиры;
В разлуке с ней о ком мне петь?
Но почему Темира? Дело в том, что в то время русские поэты часто использовали условные женские имена, позаимствованные из западноевропейской поэзии. Так, Державин обращался к Пленире, Дельвиг — к Лилете, Пушкин — к Эльвине.
Женитьба положительно сказалась на карьере Хвостова. Он стал доверенным лицом самого Суворова и даже получил титул графа, дарованный ему Сардинским королем по просьбе полководца. По ходатайству того же Суворова Екатерина II пожаловала Хвостова в камер-юнкеры. С этим событием был связан популярный в то время анекдот, записанный Вигелем:
«Этот союз [с Горчаковой] вдруг поднял его [Хвостова]: будучи не совсем молод, неблагообразен и неуклюж, пожалован был он камер-юнкером пятого класса — звание завидуемое, хотя обыкновенно оно давалось осьмнадцатилетним знатным юношам. Это так показалось странно при дворе, что были люди, которые осмелились заметить о том Екатерине. „Что мне делать, — отвечала она, — я ни в чем не могу отказать Суворову: я бы этого человека сделала фрейлиной, если б он этого потребовал“».
Но Хвостов прекрасно справлялся со своими обязанностями и вскоре стал не только правой рукой великого полководца, но и его близким другом. Они вели активную переписку, в которой Суворов поверял Дмитрию Ивановичу все, вплоть до своих снов. Кроме того, он был настолько уверен в помощнике, что поручил ему присматривать за своими детьми.
Известна история о том, как Суворов на смертном одре попросил Хвостова не писать больше стихов. «Увы, — якобы ответил на это Хвостов, — хотя еще и говорит, но без сознания, бредит!» Ничего общего с реальностью этот эпизод не имеет. Виницкому удалось разыскать воспоминания близкого к Хвостову епископа Евгения (Болховитинова), который говорил, что умирающий Суворов на самом деле повелел: «Митюшка! Не черти на моей гробнице стихами, а разве напиши только: здесь лежит Суворов». И действительно, именно эта лаконичная надпись была высечена на надгробии.
Как известно, у Павла I были серьезные разногласия с Суворовым, поэтому после восшествия нового императора на престол Дмитрий Иванович впал в немилость. Но он быстро вернул себе расположение августейшей особы, написав оду на принятие Павлом звания великого магистра мальтийского ордена. Тот остался доволен и наградил поэта должностью обер-прокурора Святейшего синода. Дальше — лучше: в александровскую эпоху Хвостов стал сенатором, а при Николае I был посвящен в тайные советники.
Твари бытия
Если со службой и личной жизнью у Дмитрия Ивановича все наладилось, то на литературном фронте дела шли из рук вон плохо. Впрочем, сам Хвостов, вирши которого обеспечили ему славу неисправимого метромана (так в то время называли графоманов), был собой вполне доволен. Насмешки и обвинения в свой адрес он, как один из последних представителей классицизма, считал кознями коварных поэтов-романтиков. Историк литературы Петр Осипович Морозов нашел такую заметку поэта о самом себе:
«...поэт, которого публика не читает и не знает по невниманию к произведениям изящных искусств, а иные без толку бранят и гонят за то, что певец Кубры (то есть я) вооружается на романтиков, которые не довольно что испортили в словесности вкус и язык, портят нравы, вселяя в мысли и сердца безначалие и разврат».
Дмитрий Иванович утешал себя тем, что «новая развращенная мода» скоро пройдет и тогда талант его обретет достойных ценителей. Критик Елисей Яковлевич Колбасин цитировал замечательное хвостовское (и неожиданно обэриутское!) одностишие, которым Дмитрий Иванович выразил свое отношение к критикам:
Пускай зоилятся парнасские ерши!
Впрочем, если верить некоторым анекдотам, Хвостова очень расстраивали негативные отзывы. Одна из таких историй, рассказанная Морозовым, связана с одой «Бог», которую Хвостов написал в 1795 году. Видимо, Дмитрию Ивановичу захотелось потягаться с Державиным, который написал одноименную оду одиннадцатью годами ранее. Однажды по дороге в царское село граф начал требовать от своего секретаря, чтобы тот откровенно сказал ему, какую из двух од — Державина или Хвостова — он считает лучшей. Узнав, что спутник отдал предпочтение творению Гаврилы Романовича, Хвостов чуть было не выкинул его из кареты.
 Неизвестный художник. Литография к поэме Г. Р. Державина «Бог».
Из книги «Сочинения Державина» (Санкт Петербург, изд. Д. П. Штукина, 1845)
Неизвестный художник. Литография к поэме Г. Р. Державина «Бог».
Из книги «Сочинения Державина» (Санкт Петербург, изд. Д. П. Штукина, 1845)
Как известно, о вкусах не спорят. Может быть, вариант Дмитрия Ивановича был не так уж плох? Находим оду в сборнике Хвостова «Лирические творения» (1810) и читаем:
Я сам где чувство взял такое,
Что не могу пребыть в покое,
Из недр земных парю в эфире,
Мещу с былинки к солнцу взоры,
Со дна морей несусь на горы,
В единый миг объемлю мир?
Какою силой раздробляю,
А после как совокупляю
Причины тварей бытия?
За «тварей бытия» Державин отомстил Хвостову эпиграммой:
В твоих торжественных, высокопарных,
Похвальных одах, благодарных,
Не блески в мраке зрю, — не день,
Не звуки слышу громовые:
Текут потоки потовые
И от гремушек дребедень.
Надо сказать, что Хвостов очень любил предисловия и иногда писал их сам, представляясь редактором. В предисловии к «Литературным творениям» говорится, что сборник рассчитан на тех, «кто любит истинное чувство, соединенное с духом философским и важностию предметов». Действительно, некоторые вещи могут озадачить неподготовленного читателя. Несколько отрывков:
Мой круг искусно составляю,
А там, когда досягнет луч,
Я блеск и вдаль усугубляю,
Боясь копить громовых туч.
(«Вельможа»)
Презря свое богатство знатно
Любители чужих зараз
Пускай стараются превратно
Воздвигнуть здание для глаз…
(«Ода Императорской Российской Академии на вступление ея в новопостроенное щедротою Александра Перваго здание 1804 года»)
К нему дубровы притекали
И львы свирепо не рыкали…
(ода «Стихотворение»)
Дмитрий Иванович также занимался переводами, причем осмелился посягнуть на знаменитое «Поэтическое искусство» Буало. Получилось очаровательно:
Смотри, чтоб гласная, спеша, не спотыкнулась,
И с гласною другой в дороге не споткнулась.
Ты мягкие слова искусно выбирай,
А от слиянья злых как можно убегай.
Важно сказать, что это лишь один из вариантов перевода (их насчитывается около десяти). Дмитрий Иванович постоянно переписывал свои творения, так что они менялись от издания к изданию. Интересно, что эпиграф к четвертому тому собрания сочинений графа, где помещены эти переводы, гласит: «Что само по себе естественно, прекрасно, / То вновь перерождать и украшать опасно». Так или иначе, для наглядности сравним приведенный выше отрывок с переводом этого же места Эльгой Львовной Линецкой:
Вы приложить должны особое старанье,
Чтоб между гласными не допустить зиянья.
Созвучные слова сливайте в стройный хор:
Нам отвратителен согласных грубый спор.
Еще один известный перевод Хвостова — «Андромаха» Расина. По изданию 1794 года:
Грустлива пленница самой себе досадна,
Как мыслит, чтоб была в любви тебе отрадна.
Перевод Инны Яковлевны Шафаренко и Владимира Ефимовича Шора:
Вы домогаетесь любви. Но до того ли
Измученной вдове, томящейся в неволе?
«Андромаха», как, впрочем, и все другие книги графа Хвостова, расходилась плохо. Это иллюстрирует приведенный Морозовым анекдот:
«...экземпляры „Андромахи“ во время ее представления продавались при входе в театр. Автор [Хвостов] спросил у продавца пьес: „Много ли вы продали экземпляров моей Андромахи?“ — „Да всего один“. — „Как это? У меня в неделю разошлось больше пятидесяти“. — „Это дело другое, ваше сиятельство, — отвечал книгопродавец, — Вы сами изволите раздавать, так у вас всякий возьмет книжку, а здесь другой посмотрит, да и положит“».
Неизвестный автор посвятил поэту ядовитую эпиграмму:
Не все породисты собаки,
Не всяк в отца боярский сын,
И переводчик «Андромахи»
Еще далёко не Расин.
Вмиг, скок, вдруг, паук
Особое место в творчестве Дмитрия Ивановича Хвостова занимают басни. «Для любителей стихотворных курьезов каждая басня графа Хвостова представляет достаточный материал, — писал о творчестве графа Морозов, — выбирать из них примеры — значило бы переписать всю книгу». С этим не поспоришь. Даже сам Дмитрий Иванович в стихотворении «Мешки судеб» писал:
Признаться, что люблю я очень Лафонтена
И вымыслы его стараюсь перенять,
Но вот несчастие — и тем он горче хрена,
Нет дарования так ловко рассказать…
Нам придется ограничиться лишь некоторыми примерами, найденными в изданиях «Избранные притчи...» (1802) и «Басни» (1820). К счастью, заинтересованный читатель может без труда отыскать эти и другие книги Дмитрия Ивановича в сети (например, здесь и здесь). Не очень заинтересованному тоже советуем: творчество графа — это то, о чем принято говорить «так плохо, что даже хорошо».
В первую очередь стоит обратить внимание на хвостовский бестиарий. Чего стоит один только голубь, который «кой-как разгрыз зубами узелки» («Два голубя»). За эту оплошность Хвостову пришлось снести столько насмешек, что в «Баснях» 1820 года он исправил строчку на «кой-как распутавшись...». Но одним только голубем зоопарк Дмитрия Ивановича не ограничивался. Червяк у него «искусно лапкой загребает» («Червяк и собака»), разрубленная мужиком змея «рассечена скакала и части съединить искала» («Мужик и змея»), муха «в уста красавицу лобзает» («Муравей и муха»), сорока «изволит щебетать», а осел «крепко лапами за дерево хватает», влезает на рябину и превращается в ослицу («Осел и рябина»).
 Зубастые (а точнее, зубчатоклювые) голуби действительно существуют и водятся на Самоа: свое название птицы получили из-за зазубрин на нижней части клюва
Зубастые (а точнее, зубчатоклювые) голуби действительно существуют и водятся на Самоа: свое название птицы получили из-за зазубрин на нижней части клюва
Другие интересные находки:
Лягушки не хотят как Якобинцы жить...
(«Лягушки, просящие царя»)
Волк Зороастрово ученье почитал,
Огонь усердно обожал…
(«Волк Зороастров жрец»)
Баран увесистей чем сыр...
(«Овца и ворона»)
Мы станем взапуски друг друга целовать...
(«Петух и лисица»)
И замечательное в своей простоте, но невероятно глубокое:
Ползя,
Упасть нельзя.
(«Орлица и ворона»)
Басню «Собака без ушей» хочется привести полностью. Случай вопиющий, но мораль не ясна:
О горесть! о беда! свирепы души
У датска кобеля отрезали вмиг уши.
Тоскует, плачет пес,
Пришло мне спрятаться в дремучий лес;
Как я таким уродом
Предстану пред народом?
Собака бедная, пожалуй ты не вой!
Еще не короток век твой;
Пусть уши у тебя, собака, не велики,
Привыкнут видеть их;
А ты вперед и в случаях таких
Останешься как конь, век права без улики.
Еще одна особенность басен Хвостова — чрезмерное пристрастие к коротким словам вроде «вмиг», «скок», «вдруг» и прочих, которые помогали соблюсти размер и делали повествование динамичным. Крылов высмеял стихотворную манеру графа в пародии «Паук и гром»:
Перед окном
Был дом.
Ударил гром
И со стены паук
Вдруг стук,
Упал, лежит,
Разинул рот, оскалил зубы
И шепотом сквозь губы
Вот что кричит:
«Когда б ослом
Я создан был Зевесом,
Ходил бы лесом,
Меня бы гром,
Тряся окном,
И дом
С стены, не мог стряхнуть
Нас чаще с высоты стараются сопхнуть».
По мнению Махова, на поэтическую манеру Хвостова могла повлиять переписка с Суворовым. Генералиссимус писал короткими, отрывистыми фразами, смысл которых был понятен только адресату. Например, одно письмо начинается так: «Их самих оружием побеждать. Зависть? Да! 50 лет в службе, 35 лет в непрестанном употреблении. Ныне рак на мели. Что ж? Разве абшид, коли питать клевретов. Старшинство. Ему это незнакомо». Или: «Личности переменяют смысл и вид. Не презирайте искрою. Лай — лиз, участь — корысть, молва — подкоп. Зарница — Перун».
Читай, зевай и в печке жги
Хвостов постоянно находился в поиске слушателей, из-за чего многие бежали от него как от огня. Бурнашев писал, что Дмитрий Иванович даже завел себе специального слугу, обязанности которого ограничивались слушанием или чтением вслух стихов графа (на этой работе редко задерживались больше года). Сохранилось множество воспоминаний и анекдотов о том, на какие ухищрения шел поэт для того, чтобы завладеть вниманием любого, кто оказывался рядом: одного запирал в карете, другого подкарауливал в Летнем саду, третьего заманивал богатым обедом. Такие чтения порой заканчивались печально для самого Хвостова. Например, однажды Дмитрий Иванович заявился на дачу к Крылову с тем, чтобы прочитать посвященную хозяину дома оду «Певцу-Соловью». В стихотворении было 20 строф, и после прочтения каждой хозяин и гости одаривали поэта бурными аплодисментами. Кто-то из присутствующих объяснил ему, что если при чтении аплодируют, то читающий должен купить бутылку шампанского. В итоге визит обошелся Хвостову в 200 рублей.
Но эта сумма была ничтожной в сравнении с теми деньгами, которые Дмитрий Иванович тратил на издание своих стихов. Второй том собрания сочинений Хвостова, выпущенный в 1829 году, открывается эпиграфом:
«Люблю писать стихи и отдавать в печать».
И это была истинная правда. Все книги граф печатал за свой счет, причем старался оформить их как можно дороже. «Перед нами лежат теперь обильные и многотомные материалы Дмитрия Ивановича Хвостова... — писал Колбасин. — Все они прекрасно переплетены, пронумерованы, с щегольскими надписями на корешках — по красному сафьяну золотыми буквами». Но, как видно из анекдота о переводе «Андромахи», книги продавались плохо. У Хвостова была целая армия «тайных агентов», которые на деньги графа раскупали его же книги, чтобы создать иллюзию популярности. Но это случалось так часто, что книгопродавцы знали всех мнимых покупателей в лицо. Однажды, желая помочь Крылову, который остался без денег, Хвостов подарил ему 500 экземпляров своего собрания сочинений, надеясь, что баснописец выручит за них хорошие деньги. Раздосадованный Крылов нанял ломового извозчика и выбросил все это богатство на улицу. В конце концов книги отвезли обратно автору.
 И. В. Слёнин
И. В. Слёнин
Постоянный издатель Дмитрия Ивановича, Иван Васильевич Слёнин, зарабатывал на графомании поэта хорошие деньги. Из «Чудодеев»:
«Процесс этого курьезного и бесцеремонного карманонабивания Слёниным очень прост: во-первых, он черпает из домовой графской конторы денег на потребности издания гораздо больше, чем сколько действительно издерживается на издание, а во-вторых, ему же, Слёнину, поручается скупать на счет хозяина все оставшиеся в книжных лавках экземпляры, причем за труд ему отходит порядочный куш. Слёнин, конечно, не сжигает эти книги, что было бы не по-коммерчески, а по весьма недорогой цене с пуда продает на оклейку стен обоями малярных дел мастерам».
Острословы придумывали и другие способы применения книгам Дмитрия Ивановича. Колбасин цитирует эпиграмму, написанную Дельвигом:
В стихах Хвостова пользы три:
Читай, зевай и... в печке жги.
Еще одна эпиграмма, написанная Александром Ефимовичем Измайловым (по другой версии — Михаилом Васильевичем Милоновым):
Я видел как стихи, валяясь на прилавке,
У лавочников шли оберткой на булавки,
И видел: с семгою обнявшийся судак
В твоих творениях сказал, что ты дурак.
Тот же Измайлов в пародийной сказке «Стихотворец и черт» очень достоверно описал бурную деятельность графа:
Начну читать стихи — смеются;
Печатаю — не продаются;
Пришлось с Парнаса в петлю лезть,
Чтоб уважение и славу приобресть.
Каких я не искал каналов!
Платил газетчикам, издателям журналов;
Свои сам книги раскупал;
Все раздарил, а их никто и не читал.
Врагам своим писал в честь оды и посланья,
И в книжных лавках стал предметом посмеянья.
Смехачи и паразиты
Как бы ни были плохи стихи петербургского графомана, такого отношения к себе он явно не заслуживал. На нем наживались все кому не лень. По словам Колбасина, состоятельный граф отличался чрезмерной добротой и считал себя меценатом. Деньги его шли не только на издание собственных книг, но и на поддержку других литераторов (в том числе и Воейкова, который поместил графа в «Дом сумасшедших»). Например, когда появлялся новый литературный журнал, к Дмитрию Ивановичу обращались с просьбой «способствовать увеличению числа подписчиков». Доходило до того, что Хвостов сам скупал весь тираж, за что просил только одного — напечатать его стихотворения. Увы, стихов под разными предлогами не публиковали. Например, редактор «Московского телеграфа» Николай Иванович Полевой придумывал отговорки вроде «Эпиграмму вашу цензура не пропускает, потому что она ужасно зла». Или: «Оды вашей, к моему прискорбию, в „Телеграфе“ напечатать не могу: слишком сладострастна...»
«Большая часть писем, сохраненных графом Хвостовым, — рассказывал Морозов, — писаны как будто по одному рецепту: сначала — благодарность за присылку „драгоценных“ творений его сиятельства и за высокое наслаждение, доставляемое ими читателю; затем, в самом конце, иногда в виде приписки, покорнейшая просьба о представлении к чину, о раздаче билетов на издаваемый просителем журнал, о поднесении его стихов или изданий особам императорской фамилии, иногда даже просто о денежном пособии и тому подобное». Посмотрите, какое восторженное послание отправил графу драматург Степан Иванович Висковатов:
Любитель и любимец муз!
Ум тонкой, нежный вкус
Ты с добродетельной душой соединяешь;
Ты злополучным всем от сердца сострадаешь
И ныне я предстал к тебе с моей мольбой:
Дай беспокровному покров надежный свой!
Доставь прибежище страдальцу скорбну, сиру!
А я зато, прияв мою усердну лиру,
Превознесу тебя, любимца муз, певца,
Достойного во век нетленного венца.
 О. А. Кипренский.
Портрет П. И. Шаликова.
1816–1819 гг.
О. А. Кипренский.
Портрет П. И. Шаликова.
1816–1819 гг.
Первое место среди просителей занимал наследник литературных традиций Дмитрия Ивановича, князь Петр Иванович Шаликов, «по бездарности превосходивший самого Хвостова». Вот одно из его писем, найденное Колбасиным:
«Рассматривая черты лица вашего нового портрета, который... часто бывает перед нашими глазами, я воскликнул однажды: „какая милая, добродушная физиономия у графа! Все показывает в ней человека мыслящего и чувствующего благое!“ Жена и дети, окружавшие меня в сию минуту, разделили со мною удовольствие рассматривать черты лица нашего благодетеля. Наконец первая, т. е. жена, в свою очередь воскликнула: „Для чего ты не попросишь графа... о чине?“ <...> И я произнес: буду просить!»
Неужели бедный граф не понимал, как на самом деле относятся к нему окружающие? «Не надо думать, что на Хвостова не действовали никакие сатиры и советы, — писал Колбасин. — Это опровергает уже одно то, как старательно задабривал он Измайлова, Полевого, Воейкова, Пушкина». Действительно, Хвостов стремился угодить и хвалителям, и хулителям: он заискивал, унижался, ссужал крупные суммы и дарил подарки, а для кого-то выбивал высокие чины. Веру Дмитрия Ивановича в свой литературный талант подкрепляли мнимые поклонники, которые спешили заверить графа в бесталанности противников. Тот же Колбасин цитировал письмо некоего Лялина, который писал Хвостову, что «Пушкин не знает склонений и падежей и что ему, при всем его гении, надо поучиться красот стиха у певца Кубры».
Другие хвалили творчество графа не из корыстных целей, а чтобы поскорее от него отделаться. Колбасин рассказывал, как однажды Дмитрий Иванович отправил свои стихи Карамзину. «С особенным удовольствием замечаю прекрасные стихи: три последние во второй строфе; два первые в пятой; седьмой, восьмой и девятый в шестой; шесть последних в седьмой; два последние в восьмой и средние в десятой, — отвечал Карамзин. — Вот как надобно писать нашим стихотворцам: учите их». Хвостов долго ломал голову, почему Николай Михайлович отметил именно эти места. На самом деле Карамзин стихов не читал, а строфы указал наобум, чтобы не обидеть поэта.
Простодушный Хвостов принимал все за чистую монету. Иван Иванович Дмитриев в ответ на его письма с просьбами прочесть очередное творение всегда отвечал, что оно «не уступает старшим сестрам своим». В чем именно не уступает, литератор не уточнял. Хвостов радовался, почитая это за комплимент. Поверил он и злой шутке, которую сыграл с ним Измайлов. В 1820 году после выхода «Басен» Александр Ефимович поместил в десятом номере своего журнала «Благонамеренный» якобы хвалебную рецензию. Он восхищался талантом Дмитрия Ивановича и в доказательство приводил самые нелепые отрывки. В отличие от книги, этот номер журнала шел нарасхват. Растроганный Хвостов подарил Измайлову серебряный поднос, на котором, как писал Бурнашев, «у Измайлова, конечно, чая не подавали».
Лечить нельзя помиловать
Неудивительно, что со временем граф начал испытывать финансовые затруднения. Но даже это его не останавливало. Как рассказывал Колбасин, в царствование Александра I Хвостову удалось выхлопотать временное денежное пособие: император дал ему эти деньги из жалости, чтобы тот выкупил свое заложенное имение. Графиня обрадовалась и стала просить мужа употребить эти деньги на что-нибудь полезное. «Погоди, матушка, ответил ей Хвостов, — прежде всего надо тиснуть мои сочинения новым изданием». Даже если эта история — лишь очередная выдумка столичных острословов, она была недалека от истины.
При этом в повседневной жизни и на работе Дмитрий Иванович был вполне здравомыслящим человеком. «Как ни парадоксально, в делах судебных он, как сенатор, отличался, кроме честности, здравым понимаем самых сложных вопросов... — писал Колбасин. — Он составлял даже проекты, не лишенные практического смысла и понимания действительности, как, например, об искоренении нищенства в России, о распространении элементарных юридических познаний». Более того, благодаря Хвостову русские дворянки получили право наследования имущества скончавшихся мужей. Согласно литературоведу Михаилу Ивановичу Сухомлинову, в 1816 году Дмитрий Иванович обратился к Александру I с просьбой утвердить Аграфену Ивановну владелицей имения после его смерти. «Все доводы были изложены сильно, ясно и красноречиво», так что император согласился, а позже утвердил соответствующий закон для всех дворянок.
«Чем объяснить такое противоречивое сцепление ясного взгляда на поступки других и совершенное непонимание собственной нелепости? — размышлял Колбасин и тут же отвечал: — Твердою уверенностью в самого себя и известным повреждением ума, свихнувшегося на одной любимой idêe-fixe». Вполне возможно, что Дмитрий Иванович всю жизнь был заложником того, что в современной психиатрии называется сверхценной идеей. Неожиданный успех «Легковерного» (какое пророческое название!) и благосклонность императрицы могли произвести на чувствительного молодого человека сильное впечатление, которое пробудило в нем болезненную тягу к признанию. Впрочем, мы не врачи и не путешественники во времени, чтобы ставить диагноз давно почившему «певцу Кубры». Безусловно, он был чудаком, но чудаком безобидным и, к сожалению, излишне благодетельным.
 А. Н. Бенуа.
Д. И. Хвостов.
1915
А. Н. Бенуа.
Д. И. Хвостов.
1915
Дмитрий Иванович скончался осенью 1835 года. Если верить Бурнашеву, причиной смерти стало переедание: желудок «всегда слабого и находившегося на диете старца» не смог справиться с сытным обедом. Аграфена Ивановна скончалась в 1843 году. Их единственный сын Александр, по воспоминаниям современников, тоже был большим оригиналом, но, в отличие от отца, имел массу вредных привычек. Вяземский называл его «пакостнейшим творением графа Хвостова». Потомства после себя Александр Дмитриевич не оставил.
Дмитрий Иванович был похоронен в любимой Выползовой слободке рядом с отцом. На могиле отца есть эпитафия, вероятно, сочиненная сыном: «Беспристрастный скажет о нем: не ленты, не чины ему венец и слава, но к ближнему любовь, души и кроткость нрава». На могиле графа эпитафии нет. Махову удалось выяснить, что усыпальница Хвостовых была разорена в 1919 году «при каких-то странных обстоятельствах».
Сколько бы ни потешались литераторы и читатели над творчеством Дмитрия Ивановича, надо признать, что добиться известности (пусть и печальной) ему все-таки удалось. Прославился он не столько благодаря своим творениям — плохих поэтов хватало во все времена, — сколько благодаря бесконечным и бесплодным попыткам вскарабкаться на литературный Олимп. Хвостов даже воздвиг себе стихотворный «Памятник», где, как ни странно, просил забыть о своих литературных подвигах. Получилось очень трогательно и жизнеутверждающе. А после знакомства с биографией графа может и на слезу пробить:
Восьмидесяти лет старик простосердечный,
Я памятник себе воздвигнул прочный, вечный:
Мой памятник, друзья, мой памятник — альбом;
Пишите, милые, и сердцем и умом,
Пишите взапуски, пишите, что угодно;
Пускай перо и кисть играют здесь свободно,
Рисует нежность чувств стыдлива красота,
Промолвит дружбы в нем невинной простота;
Я не прошу похвал, я жду любви совета:
Хвостова помните, забудьте вы поэта.