Польское Царство как «Другой» русского национализма
Беседа с автором книги «Польские земли под властью Петербурга»
— Применима ли, с вашей точки зрения, колониальная оптика при написании труда о польских землях в составе Российской империи? Иначе говоря, было ли Царство Польское российской колонией? Оправданно ли рассматривать в качестве колоний другие части Речи Посполитой, присоединенные к Австрии и Пруссии?
— Я считаю, что называя Царство Польское и любую другую часть разделенной Польши колонией, мы впадаем в заблуждение. Конечно, господство властного аппарата и обособленность имперской административной элиты наводят на мысль о колониальном устройстве этих земель. Тем не менее против того, чтобы называть Привислинский край (одно из названий Царства Польского, введенное в официальный обиход в 1860-е годы.— Прим. ред.) колонией, а Варшаву — колониальным городом, можно выдвинуть несколько возражений. Понятие колонии почти никак не укладывается в то, как имперские акторы видели свою страну сами. Хотя российские власти и создали у себя на периферии несколько зон с особой юрисдикцией, претензия самодержцев на абсолютную власть и их желание инкорпорировать окраинные территории не стыкуются с идеей протекторатов, в разной степени зависимых от центра. Самосознание российского самодержавия подразумевало, что все части империи подчиняются правителю в равной мере.
Такое понимание имперской интеграции имело далеко идущие последствия для утверждения власти на периферии. Хотя нехватка ресурсов и кадров ослабляла управленческие структуры, претензии центра на единство империи, как если бы она составляла одну нацию, не подвергались сомнению. По мерам, принятым в ходе Великих реформ, видно, что Петербург приступил к упразднению особого статуса провинций и сделал шаг в сторону стандартизации закона и управления по всей империи. Проект унификации включал и Царство Польское. Царь считал Привислинский край своей окраинной провинцией, а не внешним самостоятельным образованием.
 С другой стороны, колониальная концепция затуманивает важный факт: для метрополии и провинции оставалось много непонятного в отношениях господства и подчинения. Хотя царская армия и обеспечивала военную гегемонию Петербурга, даже имперские чиновники считали, что преимущество в экономическом и культурном развитии не на их стороне. Таким образом, когда речь заходит о цивилизаторской миссии, столь характерной для европейского колониализма, трудно понять, как и на каких основаниях можно применить ее к польским землям. Все попытки Российской империи провозгласить, что Петербург несет западным окраинам свет цивилизации, наталкивались на неприязнь и отрицание среди поляков, у которых был собственный взгляд на вещи, подкрепленный не только внутренней традицией, но и курсом на общеевропейские ценности.
С другой стороны, колониальная концепция затуманивает важный факт: для метрополии и провинции оставалось много непонятного в отношениях господства и подчинения. Хотя царская армия и обеспечивала военную гегемонию Петербурга, даже имперские чиновники считали, что преимущество в экономическом и культурном развитии не на их стороне. Таким образом, когда речь заходит о цивилизаторской миссии, столь характерной для европейского колониализма, трудно понять, как и на каких основаниях можно применить ее к польским землям. Все попытки Российской империи провозгласить, что Петербург несет западным окраинам свет цивилизации, наталкивались на неприязнь и отрицание среди поляков, у которых был собственный взгляд на вещи, подкрепленный не только внутренней традицией, но и курсом на общеевропейские ценности.
Все это заставляет усомниться в том, что Царство Польское правильно называть колонией.
— После разделов Речи Посполитой Польша как единое целое продолжала существовать в сознании польских элит. Насколько при этом сохранились транспортные и культурные коммуникации между Царством Польским и польскими частями в составе соседних держав? Легко ли было переместиться из Варшавы в Краков или Познань?
— В течение всего XIX века между тремя частями разделенной Польши сохранялись тесные связи. Экономический и культурный обмен не ослабевал. Так, Ягеллонский университет в Кракове оставался важнейшим интеллектуальным ориентиром для поляков из Царства Польского. Пограничный контроль в те времена был довольно слабым и неэффективным. Российские власти не могли остановить поток нелегальной литературы из Галиции в русскую Польшу, так же как не могли помешать боевикам Польской социалистической партии пересекать границу. Революционные партии использовали Галицию как базу для отступательных маневров и главный тренировочный лагерь. Надо сказать, что австрийская Галиция для поляков, живших в России, имела большее значение, чем прусские территории.
Часто упускают из виду важный фактор, укреплявший ощущение единства Польши несмотря на ее разделы: сам Петербург внес немалый вклад в это укрепление, ведь царская политика дискриминации польских земель (к примеру, неготовность наделить их муниципальным самоуправлением) усиливала их несходство с остальной Россией. Таким образом, польская «самобытность» бросалась в глаза еще сильнее вопреки политической цели Петербурга — искоренить «польское своеобразие».
— Царство Польское нередко называют лабораторией либеральных реформ, которые Александр I задумывал распространить на другие подвластные ему территории. Польское восстание 1830–1831 годов ознаменовало крах проекта либерализации Российской империи. При этом издавна бытует мнение, что российская Польша была привилегированным краем с собственной конституцией, Сеймом и армией — и всего этого польские элиты лишились по собственному безрассудству. Как вы считаете, почему эксперимент не удался? Можно ли утверждать, что чрезмерное польское свободолюбие послужило причиной сворачивания реформ? Или, наоборот, Ноябрьское восстание стало реакцией на усиление консервативных тенденций в империи и связанные с ним политические репрессии?
— В данном случае мы видим, что к эскалации привело взаимодействие нескольких факторов, которые трудно анализировать отдельно друг от друга. Один из них, а именно польские романтические концепции свободы и сопротивления («чужеземному владычеству»), оказывал большое влияние на умы польских элит. Многим полякам уступки Александра I казались слабым утешением, учитывая потерю суверенитета.
 Мальте Рольф
Мальте Рольф
С другой стороны, власти империи сами создавали поводы для усиления напряженности. Николай I после вступления на престол восстановил против себя польское общественное мнение многочисленными нарушениями конституции 1815 года, а также другими актами насилия и символическими жестами. Грубое и оскорбительное поведение Николая Новосильцева и великого князя Константина в Варшаве, усиление цензуры, следствия и суды над тайными и студенческими организациями вкупе с открытым неуважением царя к польским правам и институтам, таким как Сейм, вызвали у поляков чувство негодования по отношению к Петербургу. Ключевым фактором эскалации стали ожесточенные споры вокруг классификации дворянства, так как многие представители мелкой шляхты столкнулись с перспективой исключения из благородного сословия. Такое отношение только усилило их восприимчивость к революционным идеям. Что еще хуже, в 1830 году на Царство обрушился тяжелый экономический кризис.
В совокупности эти факторы привели к напряженности и конфликтам накануне ноября 1830 года. В то же время не стоит забывать, что восстание начала маленькая группа молодых революционеров. Если бы несколько варшавских кадетов в легкомысленным порыве не подтолкнули остальных к немедленному выступлению, ситуация могла получить совсем иное развитие.
— Среди периферийных регионов Российской империи Царство Польское было одним из важнейших со стратегической точки зрения — и одним из самых беспокойных. За каждым восстанием следовали серьезные административные реформы, с помощью которых Петербург пытался свести на нет повстанческую активность польских элит. Можете ли вы назвать принципиальные отличия между Царством Польским после Венского конгресса, Ноябрьского восстания 1830–1831 годов, Январского восстания 1863–1864 годов и революции 1905–1907 годов?
— После Венского конгресса Царство Польское де-факто было самоуправляемым политическим образованием. Как мы уже говорили, у него была своя конституция и свой парламент, свои правительство и администрация, самостоятельная экономика и даже собственная армия.
От всего этого ничего не осталось после 1831 года. Органический статут, официально заменивший конституцию 1815 года, был приостановлен на время действия военного положения. Полномочия Ивана Паскевича, царского наместника в Варшаве, были чрезвычайны, а все независимые институты Царства были распущены. Русская армия господствовала в провинциях, а в Варшаве ее позиции упрочило возведение цитадели. Таким образом, большинство элементов польского самоуправления было утрачено. Однако имперские власти отнюдь не планировали вводить в Царстве новые внутренние ограничения. Например, в большинстве местных администраций управление по-прежнему сосредотачивалось в руках поляков. Не было предпринято почти никаких попыток ввести на польских территориях порядок по внутрироссийским стандартам. Петербург скорее был заинтересован в том, чтобы контролировать Царство с помощью армии и полиции.
Положение принципиально изменилось после 1864-го. Январское восстание и его жестокое подавление знаменуют глубокий разлом в истории Царства Польского. Все, что осталось от особых польских прав, оказалось упразднено. На смену автономии пришло военно-бюрократическое командование. Былое царство превратилось в обычную административную единицу, крепко привязанную к остальной империи. Такой удар по особому статусу выражался и в новой терминологии: после 1864 года польские земли стали повсеместно называть Привислинским краем, чтобы изжить всякие следы прежней польской государственности. Центр применил к Царству российскую систему управления провинциями и занял большинство важных чиновничьих должностей региона назначенцами извне — в основном русскими и православными по вероисповеданию. За редким исключением католикам (полякам) не позволялось занимать начальственные должности в местной администрации. Такая система во многом сохранялась до Первой мировой войны.
 В этом отношении революция 1905 года не привела к фундаментальным сдвигам. Впрочем, она все-таки принесла важные изменения. После провозглашения в империи конституционной монархии (принятия основных законов и учреждения Государственной думы в 1906 году) в Царстве начала процветать политическая жизнь. Разница между публичной сферой до 1907 года и после него была огромной. С отменой цензуры и легализацией политических партий и общественных организаций (в том числе профсоюзов) в стране стали плодиться партии, объединения, газеты и журналы. Все это создавало атмосферу оживления, немыслимую до 1905 года.
В этом отношении революция 1905 года не привела к фундаментальным сдвигам. Впрочем, она все-таки принесла важные изменения. После провозглашения в империи конституционной монархии (принятия основных законов и учреждения Государственной думы в 1906 году) в Царстве начала процветать политическая жизнь. Разница между публичной сферой до 1907 года и после него была огромной. С отменой цензуры и легализацией политических партий и общественных организаций (в том числе профсоюзов) в стране стали плодиться партии, объединения, газеты и журналы. Все это создавало атмосферу оживления, немыслимую до 1905 года.
Знаком другого важного изменения служит тот факт, что имперская администрация (особенно генерал-губернатор Георгий Скалон) проявляла готовность сотрудничать с умеренной частью польского национально-демократического движения (так называемыми эндеками). Благодаря этому появились невообразимые ранее возможности участия в политике и даже — в ограниченной форме — национальной мобилизации. В связи с этим в предвоенные годы произошел бум развития Варшавы, процветающего буржуазного метрополиса и центра оживленной политической жизни.
— Один из сюжетов вашей книги — трансферы управленческих подходов внутри империи, а точнее применение опыта чиновников Царства Польского в других частях империи. Как такие трансферы повлияли на практики управления империей в целом?
— Сильнее всего подобные трансферы проявлялись в области национальных вопросов и методов их решения. Это особенно очевидно, если посмотреть, как знания и практики из Царства Польского перенимали администраторы в балтийских провинциях. Что касается влияния на имперский центр, то с этим дело обстоит сложнее, поскольку Петербург так и не выработал единой и последовательной национальной политики, которая применялась бы по всей стране. Вплоть до 1914 года управление империей носило ситуативный характер и существенно разнилось от губернии к губернии. Таким образом, невозможно говорить, что какие-либо «трансферы повлияли на практики управления империей в целом».
Тем не менее проследить некоторую двустороннюю связь между тем, как Петербург управлял Царством Польским и как он вел себя на уровне всей России, мы можем. Приведу два примера: становление понятия «окраина», которое создавало собирательный образ приграничных территорий, и идеи, что в обществах, населяющих окраинные провинции, именно православные русские заслуживают наибольшего доверия.
 Многие чиновники, служившие в Царстве Польском, разделяли представление о том, что все периферийные территории образуют нечто единое. Несмотря на очевидные локальные особенности, в пограничных землях все больше видели части одной сущности, обозначаемой словом «окраина». Это понятие, в свою очередь, подразумевало ярко выраженную противоположность территориям, образующим центр империи, — «коренной русской земле». Таким образом, чиновники Царства были проводниками идеи двойственности, задающей структуру имперского пространства: дуализма окраины и центра, или, другими словами, бинарной модели доминирующего ядра и подчиненной периферии.
Многие чиновники, служившие в Царстве Польском, разделяли представление о том, что все периферийные территории образуют нечто единое. Несмотря на очевидные локальные особенности, в пограничных землях все больше видели части одной сущности, обозначаемой словом «окраина». Это понятие, в свою очередь, подразумевало ярко выраженную противоположность территориям, образующим центр империи, — «коренной русской земле». Таким образом, чиновники Царства были проводниками идеи двойственности, задающей структуру имперского пространства: дуализма окраины и центра, или, другими словами, бинарной модели доминирующего ядра и подчиненной периферии.
Кроме того, эти чиновники, оглядываясь на годы службы в польских провинциях, начинали активно влиять на формирование русского национализма. Во времена Столыпина предоставление русским привилегий на пограничных территориях стало основополагающим принципом имперской политики и пользовалось поддержкой бюрократии Царства Польского и «западных провинций». В Петербурге из ее представителей сложилась группа влияния, которая настойчиво заявляла, что «русское дело» на их территориях находится под угрозой и нуждается в покровительстве государства. Все эти чиновники разделяли крайне негативные представления о поляках и жили с чувством напряжения из-за противостояния двух наций. Они отвергали притязания поляков на национальную автономию и возлагали надежды на православную русскую диаспору как надежную опору имперской власти. Столыпинское правительство удовлетворило их требования, создав «русскую курию» с ее различными институтами, наделявшими привилегиями и несоразмерным влиянием местное русское население.
Такое привилегированное отношение внесло большой вклад в подъем русского национализма после 1905 года. Более того, эта политика вела к радикализации русского национализма, так как представители окраинных территорий приобрели огромный вес в националистическом движении уже в самом Петербурге. Стоит отметить, что они получили непропорционально большое число мест в Государственной думе, поэтому им удавалось включать вопросы пограничных земель в политическую повестку думских дебатов и даже выводить их на уровень ключевой темы общественной жизни столицы.
Окраинные националисты пользовались институтами, которые создало правительство Столыпина, а то, в свою очередь, отзывалось на давление, исходящее от чиновников из польских земель. В каком-то смысле можно говорить о «провинциализации центра», поскольку представители русского населения провинций сумели задать тон политическому дискурсу в канун Первой мировой войны. В итоге мы располагаем впечатляющим примером трансфера концептов, политических принципов и практических подходов, свойственных польской периферии, в направлении центра; трансфера, который отчасти даже сформировал повестку дня на правительственном уровне.
— В книге вы пишете, что образ «неблагодарных» и «кичливых» поляков сыграл немалую роль в проектировании национальной идентичности русских. Как вы считаете, были ли поляки «конституирующим Другим», оказавшим аналогичное влияние на немецкую идентичность? Или эти два случая имеют мало общего друг с другом?
— Я полагаю, что поляки во многих отношениях были «конституирующим Другим» для нарождающейся русской идентичности — особенно потому, что они акцентировали собственную «европейскость» и выставляли себя оплотом европейской цивилизации перед лицом «московитского деспотизма». Российской культурной элите предстояло найти ответ на подобные нападки и выработать такое понятие русскости, которое бы позволило отвергнуть польские притязания на культурное превосходство. В контексте этого противостояния у русских складывалось мнение о собственном превосходстве и появился фундамент для выстраивания русской идентичности в противовес польской. Чтобы обосновать право России на господство, многие русские современники утверждали, что Польша пришла к упадку, отмечая слабость и «отсталость» Речи Посполитой или размышляя о якобы типичных чертах польского (шляхетского) характера, например о «мятежном духе».
Даже те концепции, которые выводили на первый план самобытность России в сравнении с «западной цивилизацией», активно эксплуатировали антипольские стереотипы. Не случайно влиятельные проводники дискурса русской идентичности посвящали так много времени размышлениям о «польском вопросе» — достаточно вспомнить Каткова или Аксакова. Суммируя, я думаю, что у нас есть все основания говорить о поляках как о «конституирующем Другом» в процессе формирования русского национального самосознания.
Если же сравнивать с Германией, то я бы сказал, что в российском случае «польский Другой» сыграл гораздо более важную роль. Так, в публичном дискурсе кайзеровской Германии куда больший вес и влияние имела тема противостояния немцев «французской цивилизации», нежели «польский вопрос».
— Как бы вы оценили политику русификации Царства Польского после Январского восстания? Можно ли говорить о консенсусе управленческих элит Российской империи в отношении Польши, о согласованной и последовательной попытке превращения «чужого края» в «свой»?
— Нет, такого консенсуса никогда не было. Различия в представлениях о том, что делать с Царством Польским, были слишком велики даже внутри правящей элиты. Это легко увидеть, если посмотреть, как разные генерал-губернаторы подходили к осуществлению имперской власти в Варшаве. Так, Петр Альбединский или Александр Имеретинский, готовые идти на уступки местному обществу, придерживались совершенно иных методов управления, чем Иосиф Гурко, который вместе со своим приближенным, попечителем Варшавского учебного округа Александром Апухтиным, энергично отстаивал политику русификации.
Даже в Петербурге представления об имперской власти расходились. Если Константин Победоносцев поддерживал меры, направленные на усиление русификации, то многие члены Комитета по делам Царства Польского выступали против, считая, что такие действия приведут к еще большей враждебности местного населения и тем самым дестабилизируют обстановку в польских губерниях.
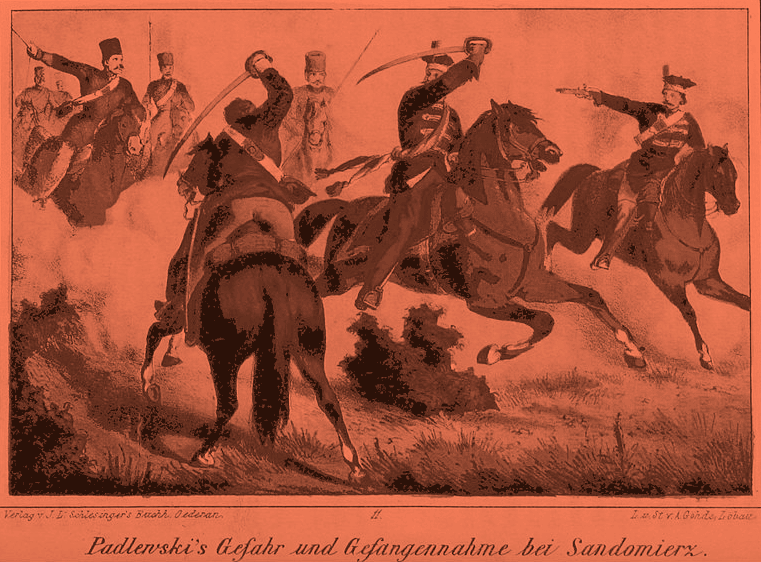 Один из ключевых вопросов, который приходилось решать чиновникам, заключался в следующем: как, когда и в какой степени следует привлекать поляков к ограниченному участию в государственных делах. Среди высшей бюрократии по этому фундаментальному вопросу никогда не существовало единого мнения.
Один из ключевых вопросов, который приходилось решать чиновникам, заключался в следующем: как, когда и в какой степени следует привлекать поляков к ограниченному участию в государственных делах. Среди высшей бюрократии по этому фундаментальному вопросу никогда не существовало единого мнения.
Минимальный консенсус состоял в том, что Польша — как и любая другая часть империи — была на вечные времена связана с Россией. Таким образом, все подходы к реформам исходили из представления о единой и неделимой империи.
В то же время существовал довольно широкий консенсус, согласно которому «конгрессовая Польша» не являлась в полной мере «русской землей». В этом смысле она резко выделялась на фоне «западных губерний», которые воспринимались как «русские территории». Большинство имперских чиновников были едины во мнении, что Царство Польское — «чужой край», который, однако, является неотъемлемой частью империи. В то же время российские администраторы никогда не стремились превратить его в по-настоящему «свой край». Гораздо больше их заботило обеспечение власти государя и осуществление контроля, чем превращение этих мест в нечто «свое».
— О повседневной жизни русских чиновников Царства Польского пишут немного, но возникает впечатление, что они жили замкнуто и, конечно, не вызывали симпатии у местного населения. Генрик Сенкевич в переписке с русским литератором Алексеем Мошиным выражал надежду, что «заведенное теперь письменное знакомство со временем обратится в постоянную доброжелательность, ибо я уверен, что ваши принципы и взгляды полностью отличаются от принципов и взглядов тех русских, а вернее, русских чиновников, с которыми мы, поляки, сталкиваемся в нашем крае». Можете ли вы привести примеры миролюбивых или, по крайней мере, продуктивных взаимоотношений между русской бюрократией и местными жителями?
— Существует немало примеров в пользу того, что российские бюрократы пытались наладить modus vivendi, основанный на хороших отношениях. Я уже упоминал генерал-губернаторов Альбединского и Имеретинского, но и генерал-губернатор Шувалов, и в известной мере генерал-губернатор Скалон старались установить связи с умеренными силами внутри польского общества. На уровне местной администрации многие следовали этому примеру. Например, такие губернаторы, как Сергей Толстой, Михаил Дараган или Константин Миллер, сотрудничали с местной элитой и с большим уважением относились к польской культуре. Дарагана, занимавшего пост калишского губернатора почти 20 лет (1883–1902), жители высоко ценили как достойного защитника их, то есть польских интересов. Миллер, многолетний глава Петроковской губернии, часто брал в свою администрацию поляков и даже держал их в своем ближнем кругу. Кстати, он был женат на католичке-польке.
Однако самый известный и яркий пример — президент Варшавы Сократ Старынкевич. Он стал инициатором целого ряда проектов модернизации городской среды, в числе которых — система водоснабжения и закрытая канализация. Старынкевич славился тем, что позволял публично обсуждать свои проекты в здании ратуши и включал поляков в качестве экспертов в комитеты городского совета. Когда он умер и был по собственному завещанию похоронен в Варшаве, собралась большая толпа желающих отдать ему последние почести. Бюст Старынкевича можно найти в Варшаве и сегодня.
Таким образом, есть достаточно примеров имперских чиновников, которые пытались способствовать русско-польскому диалогу. Но для большинства польских современников, в том числе и для Генрика Сенкевича, картину омрачали откровенные полонофобы, представлявшие русскую власть: чиновники вроде Гурко и Апухтина или такие, как Владимир Тхоржевский, сувалкский и люблинский губернатор, который был открытым противником польской культуры и католической веры. Такие чиновники вписываются в топос петербургского правления, связанного с бюрократическим произволом и деспотизмом агрессивных «русификаторов».