Романтичные мусульмане, евреи и инвалиды
Квазимодо, Жанна д'Арк и бедная Лиза — что у них общего?
В эпоху романтизма в литературе становится чрезвычайно популярной тема Другого. Героями книг оказываются те, о ком раньше не писали — представители экзотических наций, люди с физическими отклонениями, приверженцы незнакомых религий. Мария Елиферова рассказывает, почему в культуре того времени были востребованы такие необычные персонажи.
В большинстве произведений романтиков присутствует герой, наделенный подчеркнутой инаковостью, который при этом вызывает читательское сочувствие — будь то Ревекка из «Айвенго» или Квазимодо из «Собора Парижской богоматери». Через два столетия в блогосфере будут ёрничать на тему «политкорректности». Этот поворот в литературе вполне естественно подготовлен предшествующими столетиями Великих географических открытий и Просвещения, которые проблематизировали унаследованную от античного мира европейскую идентичность. Есть, однако, у этого романтического дискурса инаковости одна особенность, которая обнаруживается при более пристальном взгляде. Романтический Другой, как правило, появляется на сцене для того, чтобы красиво умереть. Вальтер Скотт пожалел Ревекку, но многие другие авторы расправляются со своими героями весьма решительно.
Перечитывая «Последнего из могикан», резонно задаться вопросом: для чего Купер так показательно угробил в конце сына Чингачгука Ункаса и его возлюбленную европейку Кору? Попробуем проиграть альтернативный вариант. Что, если бы герои не умерли?
Очевидно, что в мире Фенимора Купера хэппи-энд для Ункаса и Коры невозможен, немыслим уже только по социальным условиям эпохи. Он был бы слишком скандален даже для Жорж Санд. Зато в качестве гибнущих Ромео и Джульетты герои смотрятся безупречно. Нельзя отвести Ункаса на брачное ложе с Корой, но можно уложить его вместе с ней на алтарь катарсиса, приятно пощекотав чувства читателя шекспировской аллюзией: надо же, и индеец способен быть Ромео.
И крестьянки любить умеют
В России моделью Другого служил крестьянин. Известная нам всем со школы «Бедная Лиза» Карамзина написана на заре романтического движения, в 1796 г. Сентиментализм — пролог к романтизму, нащупывающий его проблемы и идеи. Дело, конечно, не в том, что Карамзин впервые изобразил крестьянку, как нас пытались уверять советские учебники, — в XVIII в. на сцене шло множество водевилей из жизни влюбленных крестьян. Дело в том, что любовь крестьянки изображена в серьезном, возвышенном регистре. Водевиль предусматривал только свадьбу крестьянской парочки после серии неуклюжих шуток и прибауток. Крестьяне изображались извне, как забавные животные в зоопарке. Вводя Эраста, дворянина, Карамзин разрушает этот барьер, устанавливая отношения воображаемого равенства — между Эрастом, Лизой и читателем.
И все же только воображаемого. Лизе приходится погибнуть, хотя четырьмя годами ранее Карамзин просвещенно допускал даже возможность брака «прекрасной царевны» с придворным карликом (а браки дворян с крестьянками, хоть и крайне редко, но случались на самом деле). Пушкин в «Барышне-крестьянке» выворачивает романтический сюжет наизнанку: готовность Алексея Берестова переступить через социальные предрассудки парадоксально вознаграждается тем, что его любимая оказывается… не крестьянкой. То есть на самом деле — не Другой. За много лет до того Пушкин все же заставил героиню утопиться — в «Кавказском пленнике». Здесь необходимость ее смерти уже чисто романтическая: крещеные черкешенки и татарки были популярными невестами у русских дворян еще с допетровской эры, героиня гибнет лишь потому, что отвергнута. Вряд ли случайно то, что Лев Толстой, создавая свой вариант «Кавказского пленника», постромантический, сделал Дину малолетней — заведомо исключая любовную драму. Дина просто остается в своем мире, а Жилин — в своем.

Итак, принесение Другого в жертву может быть обусловлено его социальной несовместимостью с миром автора, как в случае с Ункасом, но это далеко не всегда так. Иногда изображаются персонажи, в реальном мире имевшие возможность интеграции в общество, к которому принадлежал автор, но авторы демонстративно губят их.
Еще более нарочитые формы романтическая кровожадность принимает у Гюго в «Соборе Парижской богоматери». По сюжету Эсмеральда оказывается не настоящей цыганкой — она дочь отшельницы. У ренессансного автора она, разумеется, с триумфом возвратилась бы к матери, с нее сняли бы обвинения в колдовстве, и Феб немедленно обвенчался бы с ней. В конце концов, именно так события развиваются в новелле Сервантеса с похожей героиней. Для Гюго это невозможно. За плечами у него опыт Просвещения, философия которого гласит, что этническая инаковость — продукт воспитания. Выросшая у цыган Эсмеральда — уже на самом деле цыганка, и в европейском городском обществе ей нет места. Примерно то же происходит с Гуинпленом в «Человеке, который смеется»: человек с внешностью циркового урода в высших эшелонах власти, будь он по происхождению хоть принцем, слишком скандальная возможность. В «Соборе Парижской богоматери» Другой удвоен: роль урода отдана Квазимодо, который обречен уже безальтернативно.
Обреченность Другого
Любопытно, что романтизм, полностью отдавая себе отчет в том, что инаковость может быть приобретенной, не делает различия между врожденной и приобретенной инаковостью: та и другая обречены; погибнут и Квазимодо, и Гуинплен. Более того, обреченность инаковости и становится ее единственным оправданием. Ведь Гуинплену не дано обрести нормальную жизнь и в обществе низов, где он вырос: его возлюбленная заболевает и умирает, а сам он бросается в море. Цепочка утопившихся персонажей тянется в двадцатый век, к Мартину Идену, ибо Джек Лондон, конечно же, старомодно примеряет на себя многие шаблоны романтизма. Мартин — тоже Другой, социально чуждый обществу, в которое он пытается войти: мужской и американский вариант Бедной Лизы. И здесь расправа над героем особенно примечательна, так как Мартин, без сомнения, автобиографичен, а успешность автора в жизни очевидна.
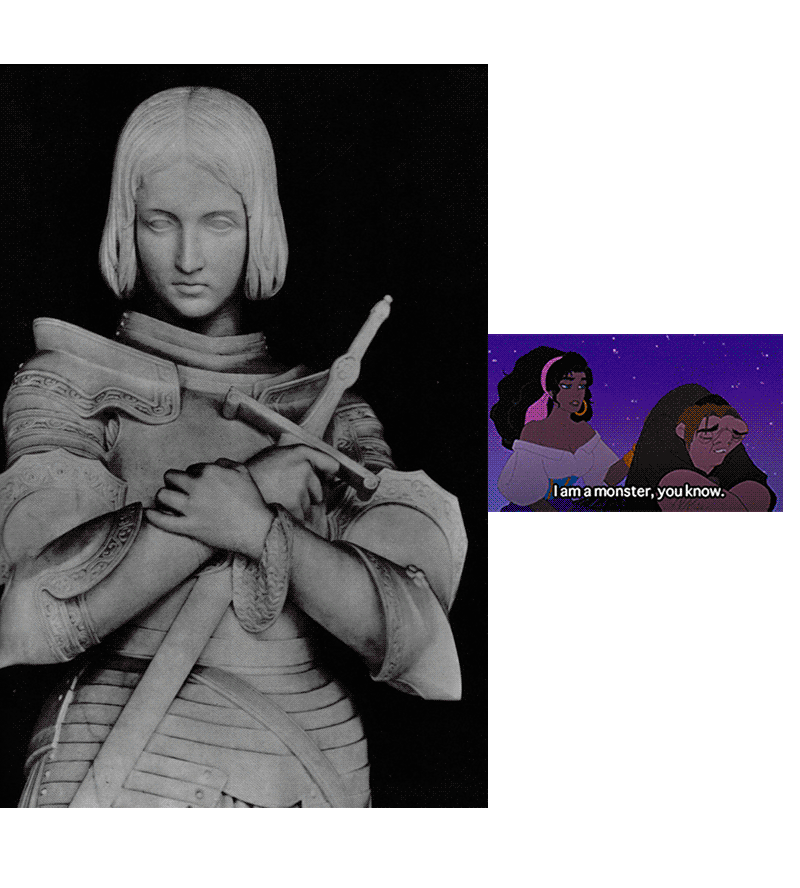
Таким образом, романтический литературный канон подразумевает негласный запрет на интеграцию Другого в общество, к которому принадлежит автор, порой более жесткий, чем в реальной социальной практике. Нормальной жизни для Другого не предусмотрено. Его функция — впечатлять необычностью и экзотикой, трогать читательские чувства и драматично умереть в финале. Претензия Другого на место в «нашем» мире вызвала бы дискомфорт и недоумение (как иллюстрирует доромантический сюжет «Простодушного» Вольтера, на этом и построенный). Инаковость допустима при условии, что она комфортна для нас.
Комфортные воины
Вероятно, эта модель отношения к Другому восходит к реальному историческому прецеденту — судьбе Жанны д'Арк. В ее истории поражают как чудовищность и демонстративность расправы над ней, так и поспешность ее реабилитации. Живая Жанна, которая неизбежно стала бы стареть, возможно, вышла бы замуж и обзавелась родственными связями, была столь же неудобна для своих сторонников, сколь и для противников. Для святой девы-воительницы мученическая смерть была логичным исходом жизненного сценария, который оставалось только дописать.
Жанна д'Арк являла собой почти идеальный прототип Другого — женщина, крестьянка (то есть для средневековой Европы, по сути, дикарка), простодушная, эмоциональная, наделенная чудесной иррациональной интуицией и притом трагически погибшая во цвете лет. Именно таким Другого пожелают видеть последующие поколения. Орлеанская Дева оказалась комфортной, в отличие от ее современницы Кристины Пизанской — образованной, рациональной, скептичной и прожившей долгую успешную жизнь. На роль выдающейся женщины Средневековья оказалась назначена первая; о второй забыли.
Хотя Жанна д'Арк стала литературным персонажем еще при жизни (кстати, в поэме Кристины Пизанской), настоящая мода на нее вспыхивает именно в эпоху романтизма — благодаря Роберту Саути и Фридриху Шиллеру, которые фактически создали парадигму ее восприятия как романтической героини. Поэма Саути — ровесница «Бедной Лизы». Поэт не доводит рассказ до казни Жанны, но сообщает о ней в пророчестве. У Шиллера же, вопреки историческим фактам, Жанна гибнет в бою — уже тяжело раненная, она встает и умирает со знаменем в руках. И как утопившийся Мартин Иден — реплика утопившегося Гуинплена, так и эхо смерти шиллеровской героини докатывается до начала XX в. — до «Хаджи-Мурата». Толстой — постромантик, или даже антиромантик — под конец жизни пишет текст, построенный по романтическому канону. Неважно, что Хаджи-Мурат — реальное лицо и с ним случилось примерно то же, что описано в повести. Отбор материала и угол зрения превращают текст в привычную читателю историю о комфортном Другом — экзотичном, пугающем, завораживающем и обреченном на эффектную смерть в кадре как условие катарсиса. В конце концов, черноглазые горцы уже сто лет как входили в базовый ассортимент романтических героев.
И вместе с тем «Хаджи-Мурат» — текст, если так можно выразиться, метаромантический. Комфорт и дискомфорт, создаваемые Другим, Толстой не просто осознает, но исследует и препарирует. Хаджи-Мурат крайне неудобен для общества николаевской России, когда он находится среди него, ждет ответа от бюрократии и вообще чего-то там хочет, и удобен, когда он убит при попытке к бегству. Тут можно даже всплакнуть, похвалить его героизм и отрубленную голову чмокнуть. В этой сцене Толстой обращает романтическую чувствительность в некрофильский гротеск, обнажая тошнотворность эстетизации смерти. И когда читатель наконец получает долгожданную сцену героической гибели а-ля Шиллер, безопасное романтическое любование ею со стороны невозможно — оно безнадежно испорчено воспоминанием о глумливом эпизоде и звучащим в ушах голосом Марьи Дмитриевны: «Живорезы!». Из объекта любования Хаджи-Мурат становится субъектом — это читатель вместе с ним ощущает, как его бьют по голове. Он больше не Другой, даже не «такой же, как мы» — он и есть мы. Потому что Другой и есть мы. Это предел возможного дискомфорта — и вместе с тем предельное открытие литературы.