Покоряя «Пирамиду»
Каково это — читать роман Леонида Леонова, который писался полвека
Леонид Леонов. Пирамида. Роман-наваждение в трех частях. М.: Издатель «Андрей Ельков», 2018
Я не дочитал «Пирамиду», но мне она очень понравилась.
Вернее, так: это был удивительный (и длящийся до сих пор) опыт работы с текстом, амбиции которого — эстетические и идеологические — сильно превышают нормативные показатели. «Пирамида» — это роман-эксцесс, и дело не только в его устрашающем (где-то полторы тысячи страниц в оригинальном двухтомном издании) объеме и вполне томас-манновской длине предложения.
Дозиметр начинает сходить с ума уже в прологе. Объясняя свое решение публиковать незаконченную книгу, Леонов пишет о «близости самого грозного из всех когда-либо пережитых нами потрясений», «гулком преддверии больших перемен» — другими словами, надвигающемся Апокалипсисе, в свете которого композиционная отделка — проблема далеко не первого порядка: лишь бы услышали.
Трудно вообразить себе менее удачное время для публикации такой странной вещи, чем 1994-й. Промежуток между перестроечным читательским ражем и рождением нового интеллигентского мейнстрима («Чапаев и пустота» выйдет через два года) — эпоха, совсем вроде бы не располагавшая к историософской рефлексии. «Пирамида» требовала другого — хочется по-стариковски сказать, прежнего — режима внимания: почтенный, грудь в орденах, автор разрешает мысль, дает ультимативный ответ на главные вопросы жизни, вселенной и всего такого. Это был вызов — и нашлись те, кто его принял.
Но прежде — необходимый абзац о сюжете. «Пирамида» (как, скажем, и «Вор») — роман о том, как пишется роман, или, точнее, о том, как устроено писательское сознание. Главный герой — «я», «Леонид Максимович» — живет в ожидании ареста: время (1940 год) и место (Москва) подразумевают повышенные для всякого литератора риски. В храме на окраине города он наблюдает, как дочь священника беседует с напоминающим ангела существом. Им оказывается некто Дымков — прибывший на Землю пришелец из других миров, в чью орбиту вовлекаются духовные лица, кинозвезды, теоретики марксизма и Сталин. Собственно, разговор «кремлевского властелина» и «товарища ангела» — кульминация книги: отказавшись помочь вождю «поубавить излишнюю резвость похотей и мыслей для продления жизни на земле», Дымков «растворяется в своем математическом небытии».
Первые ассоциации — конечно, булгаковские: евангелист «Пирамиды» Дмитрий Быков*Признан властями РФ иноагентом. прямо сопоставил эти романы — присовокупив к ним «Старика Хоттабыча» — о «вторжении иррациональных сил в советскую действительность». Но если Булгаков — во всяком случае, стилистически — ориентировался на беллетристику начала столетия (одновременно занимательную и доходчивую), то Леонов работал с другой — для удобства назовем ее модернистской — линией. Собственно, на родство — да что там, на превосходство писателя над великанами европейской прозы XX века указывал Олег Кашин*Признан властями РФ иноагентом. в своем послесловие к собранию леоновских сочинений: «Современник Кафки и Джойса, он смотрит даже на них из будущего — они ему не конкуренты, он опережал их десятилетия назад».
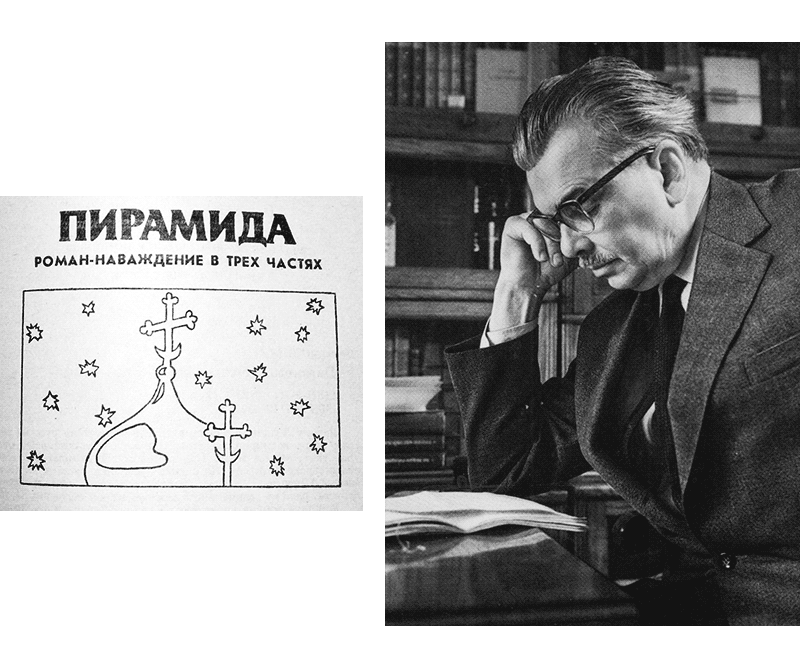 Леонид Леонов
Леонид ЛеоновЗаочно все это звучит совершенно головокружительно: отрадно думать, что в отечественной культуре — причем на самом видном месте — зарыт клад, который почему-то никому не нужен; что-то среднее между духовидческим трактатом Даниила Андреева, толкиновским эпосом и пелевинской повестью «Операция Burning Bush». Три года назад на страницах «Горького» Павел Пепперштейн предложил общественно-политическую интерпретацию этому трагическому равнодушию публики: «Каждая фраза впирает, не хуже Платонова литература, но его никто не знает, просто потому что ему дали Сталинскую премию». И здесь мы подходим к проблеме неестественного, как принято считать в некоторых кругах, отбора и эстетического ресентимента. Проблеме, которая касается не одного только Леонова.
Неточность расхожих представлений о конкурирующих вроде бы канонах — «либеральном» и «почвенническом» — становится очевидной, если заглянуть в кодификатор ЕГЭ. Битов и Распутин, Довлатов и Белов, Трифонов и Абрамов, Бродский и Рубцов — равноправные герои раздела «литература второй половины XX века». Безусловно, перед нами, что называется, дефолтная картина русской словесности, вовсе свободная от сколько-нибудь поляризующих (условно говоря, ни «Ожога», ни «Тли») текстов. И эта ее базовость, компромиссность намекает на наличие пресловутой «советской Атлантиды» — корпуса произведений, которые не могли быть напечатаны в то время или, напротив, томились, невостребованные, в библиотеках.
 В глобальном смысле у этих книг одинаковая — катакомбная, по сути — судьба: массовый культ Павла Улитина так же невозможен, как и торжественные приемы в честь Константина Федина. Нет решительно ничего подозрительного в том, чтобы гулять по русскому лесу самыми разными тропами. В недавнем выпуске подкаста «Читатель» Борис Куприянов назвал «Разгром» самурайским романом. Молодой Сорокин восхищался «Счастьем» Петра Павленко. Юрий Слезкин — явно с большим удовольствием — цитирует советскую прозу второго ряда в «Доме правительства». И если кого-то — по тем или иным причинам — коробит от фамилии «Бондарев» или «Прилепин» на задней обложке последней леоновской книги, то лучшей, кажется, стратегией будет заглянуть в нее самостоятельно — без гнева и пристрастия. Я еще не дочитал «Пирамиду», но она мне очень нравится.
В глобальном смысле у этих книг одинаковая — катакомбная, по сути — судьба: массовый культ Павла Улитина так же невозможен, как и торжественные приемы в честь Константина Федина. Нет решительно ничего подозрительного в том, чтобы гулять по русскому лесу самыми разными тропами. В недавнем выпуске подкаста «Читатель» Борис Куприянов назвал «Разгром» самурайским романом. Молодой Сорокин восхищался «Счастьем» Петра Павленко. Юрий Слезкин — явно с большим удовольствием — цитирует советскую прозу второго ряда в «Доме правительства». И если кого-то — по тем или иным причинам — коробит от фамилии «Бондарев» или «Прилепин» на задней обложке последней леоновской книги, то лучшей, кажется, стратегией будет заглянуть в нее самостоятельно — без гнева и пристрастия. Я еще не дочитал «Пирамиду», но она мне очень нравится.