Похоронить Белинского
Правительство, разумеется, и дальше хлопало бы ушами и расточало казенные деньги, если бы не помощник попечителя Московского учебного округа Дмитрий Голохвастов (здесь, думаю, М. Поляков прав). Официальные документы гласят: «уволен с казенного кошта по причине болезни и безуспешности в науках, поведения был неодобрительного»; «по слабому здоровью и притом по ограниченности способностей». Власти не ожидали, чтобы он стал дельным чиновником по ученой части. И здесь они совершили роковой шаг.
Возможно, предоставь они Белинскому канцелярскую работу, или педагогическую в каком-нибудь провинциальном училище, и гарантированный кусок хлеба (чего он, по-видимому, хотел), мы не имели бы сегодня причин интересоваться его скромной личностью. Но de facto — коль скоро власти выталкивали Белинского на поприще интеллектуального труда и литературного заработка — ему, в силу сложившихся обстоятельств, предлагалось на выбор два смертных приговора. Один — от голода, если бы он остался в Москве или переселился куда бы то ни было еще, кроме столицы. Второй — от легких, если бы (что и случилось) он переехал в Петербург. Это город, по климатическим условиям весьма немилостивый к тем, кто живет в нем, не будучи его уроженцем; для тех, у кого уязвимые легкие — втройне. Оба были, так сказать, «отложенными», и исполнился второй: критик умер, не дожив нескольких дней до тридцатисемилетия.
III. Как пишутся элегии в прозе
Наш очерк — не биография Белинского, и потому на его деятельности как могильщика двух московских журналов, «Телескопа» и «Московского Наблюдателя», на переходе в «Отечественные записки» и затем в «Современник», на поездке за границу в терминальной стадии туберкулеза мы подробно останавливаться не будем. Фундамент его репутации заложила «элегия в прозе» «Литературные мечтания», опубликованная в 1834 г. Поскольку этот текст имел важное значение, позволю себе привести из него одну характерную цитату. «А вот что, милостивые государи: хотя я и не имею чести быть бароном, но у меня есть своя фантазия, вследствие которой я упорно держусь той роковой мысли, что, несмотря на то, что наш Сумароков далеко оставил за собою в трагедиях господина Корнеля и господина Расина, а в притчах господина Лафонтена; что наш Херасков, в прославлении на лире громкой славы россов, сравнялся с Гомером и Виргилием и под щитом Владимира и Иоанна по добру и здорову пробрался во храм бессмертия (с примечанием: То есть во „Всеобщую историю” г-на Кайданова), что наш Пушкин в самое короткое время успел стать наряду с Байроном и сделаться представителем человечества; несмотря на то, что наш неистощимый Фаддей Венедиктович Булгарин, истинный бич и гонитель злых пороков, уже десять лет доказывает в своих сочинениях, что не годится плутовать и мошенничать человеку comme il faut, что пьянство и воровство суть грехи непростительные, и который своими нравоописательными и нравственно-сатирическими (не правильнее ли полицейскими) романами и народно-умористическими статейками на целые столетия двинул вперед наше гостеприимное отечество по части нравоисправления; несмотря на то, что наш юный лев поэзии, наш могущественный Кукольник, с первого прыжка догнал всеобъемлющего исполина Гете и только со второго поотстал немного от Крюковского; несмотря на то, что наш достопочтенный Николай Иванович Греч (вкупе и влюбе с Фаддеем Венедиктовичем) разанатомировал, разнял по суставам наш язык и представил его законы в своей тройственной грамматике — этой истинной скинии завета, куда, кроме его, Николая Ивановича Греча, и друга его, Фаддея Венедиктовича, еще доселе не ступала нога ни одного профана; тот Николай Иванович Греч, который во всю жизнь свою не делал грамматических ошибок и только в своем дивном поэтическом создании — „Черная женщина” — еще в первый раз, по улике чувствительного князя Шаликова, поссорился с грамматикою, видно, увлекшись слишком разыгравшеюся фантазиею; несмотря на то, что наш г. Калашников заткнул за пояс Купера в роскошных описаниях безбрежных пустынь русской Америки — Сибири и в изображении ее диких красот; несмотря на то, что наш гениальный Барон Брамбеус своею толстою фантастическою книгою насмерть пришлепнул Шамполиона и Кювье, двух величайших шарлатанов и надувателей, которых невежественная Европа имела глупость почитать доселе великими учеными, а в едком остроумии смял под ноги Вольтера, первого в мире остроумца и балагура; несмотря, говорю я, на убедительное и красноречивое опровержение нелепой мысли, будто у нас нет литературы, опровержение, так умно и сильно провозглашенное в „Библиотеке для чтения” глубокомысленным азиатским критиком Тютюнджи-Оглу; — несмотря на все на это, повторяю: у нас нет литературы!..»
Конечно, не все периоды у Белинского такой длины. Но если вчитаться в этот текст, встает неизбежный вопрос: какова должна быть публика, которой — в эпоху пушкинской прозы — нравилось это напористое многословие? О связи между публикой и вождем потом проницательно напишет Тургенев («Воспоминания о Белинском»): «Ученый человек — не говорю „образованный” — это другой вопрос, но ученый человек, именно в силу своей учености, не мог бы быть в сороковых годах такой русской центральной натурой; он не вполне соответствовал бы той среде, на которую пришлось бы ему действовать; у него и у ней были бы различные интересы; гармонии бы не было, и, вероятно, не было бы обоюдного понимания. Вожди своих современников в деле критики общественной, эстетической, в деле критического самосознания (мне кажется, что мое замечание имеет применение общее, но на этот раз я ограничусь одною этой стороной), вожди современников, говорю я, должны, конечно, стоять выше их, обладать более нормально устроенной головою, более ясным взглядом, большей твердостью характера; но между этими вождями и их последователями не должно быть бездны». Впрочем, поскольку приходилось спешить, учился Белинский на ходу — больше из разговоров (у него были интересные собеседники), чем из книг.
Отметим один обертон: Пушкин напрасно стал бы претендовать на местечко во всемирном пантеоне рядом с Байроном. Характеристики его творчества вполне однозначны: «Пушкин, поэт русский по преимуществу, Пушкин, в сильных и мощных песнях которого впервые пахнуло веяние жизни русской, игривый и разнообразный талант которого так любила и лелеяла Русь, к гармоническим звукам которого она так жадно прислушивалась и на кои отзывалась с такою любовию, Пушкин — автор „Полтавы” и „Годунова” и Пушкин — автор „Анджело” и других мертвых, безжизненных сказок!..», «в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время».
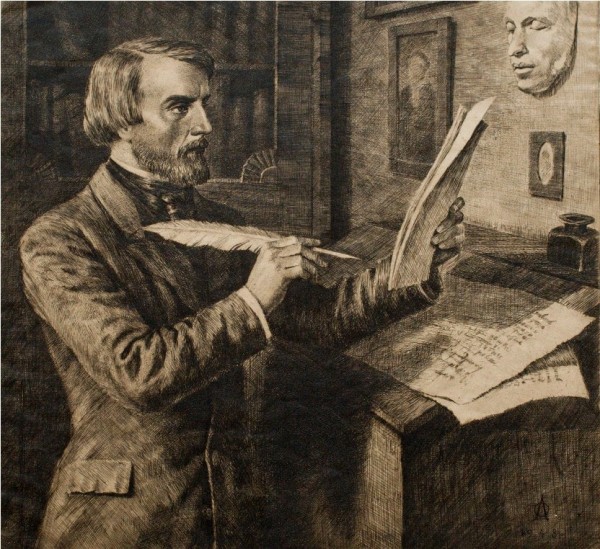 Позволим себе еще одну картинку. Одно из самых известных достижений критика — определение «Евгения Онегина» как «энциклопедии русской жизни». Посмотрим, что это за энциклопедия. Главные герои — неслужащие дворяне, в громадном море населения благородное сословие — жалкая капля. Но и из благородного сословия — потомственных дворян — большинство служили. Из неслужащего меньшинства большинство, опять-таки, выходило в отставку после некоторого периода службы, хотя бы и в низких чинах. Никогда не служивших дворян, которым почти исключительно посвящен роман, можно было заметить в России только при помощи специальной оптики.
Позволим себе еще одну картинку. Одно из самых известных достижений критика — определение «Евгения Онегина» как «энциклопедии русской жизни». Посмотрим, что это за энциклопедия. Главные герои — неслужащие дворяне, в громадном море населения благородное сословие — жалкая капля. Но и из благородного сословия — потомственных дворян — большинство служили. Из неслужащего меньшинства большинство, опять-таки, выходило в отставку после некоторого периода службы, хотя бы и в низких чинах. Никогда не служивших дворян, которым почти исключительно посвящен роман, можно было заметить в России только при помощи специальной оптики.
А как же те, кто в ней есть? Крестьянам — большинству населения — посвящено около десятка строк. Военным — и того меньше (один покойник в давно отмененном чине). Духовенства и купечества нет вовсе. Школа представлена двумя фигурами гувернеров, администрации и суда нет. Воистину, если есть желание познакомиться в энциклопедическом формате с русской жизнью тридцатых годов XIX в., трудно найти менее удачный способ, нежели прочесть пушкинский роман.
Чтобы уже не возвращаться к оценке Пушкина под пером критика (после смерти поэта тональность, естественно, переменилась), подчеркнем: позднее творчество поэта в глазах Белинского не имеет большой ценности. Я не знаю, насколько критика влияет на книгопродажу (меня самого творчество Г. Юзефович не побудило ни совершить какую-либо покупку, ни отказаться от нее), но, если предположить такое влияние, Белинский становится одним из тех людей (из числа непричастных к самой дуэли), кто больше всего содействовал финалу на Черной речке. Когда мы вспоминаем «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», мы обычно концентрируемся на втором стихе и забываем первый. С начала тридцатых годов поэт прошел по своему пути столько, что публика безнадежно отстала от него, — он не мог и не хотел приспосабливаться к ее вкусам и одновременно очень зависел в материальном плане от ее одобрения. Подсказать, что пушкинские книги покупать следует, хотя бы они были тебе на вырост, хотя бы ты никогда не дорос до них, значило помочь поэту в его трудных обстоятельствах. Дать противоположную подсказку — еще более омрачить безотрадный фон, на котором и смерть могла в горькие минуты казаться единственным выходом. Впрочем, все отмечают, что неистовый (мог бы быть прозван и «неподкупным») Виссарион — образец честности и искренности; ложь против своего эстетического чувства и теоретического воззрения была в его глазах намного более тяжким преступлением, нежели последствия правдивых слов.
Основной пафос элегии — нигилистическое «у нас нет литературы». Литература — выражение народного духа, и только во Франции — выражение общества; вооружившись этой системой, как дубиной, легко крушить прежние репутации, будто глиняные горшки. Главная жертва — все-таки не Пушкин, а Карамзин (забавно, что критик обвиняет его в недостатке учености и образованности). Противоречия Белинского не смущают (если он, конечно, их видит): старые писатели получают упрек в том, что не обращаются к народному творчеству, ограничиваясь вкусами и языком высшего общества, Пушкин — в том, что (в сказках) обращается.
У позиции прогрессиста есть один нюанс. Если ты представляешь себе развитие в виде некоторой восходящей линии, то должен представить себя как точку на этой линии. И тогда неизбежно окажется, что есть участок линии ниже тебя, а есть — выше. Предположим, раньше в литературе орудовали одни бездарности и графоманы; но они кому-то нравились? Предположим еще, что те, кому они нравились, заблуждались. Но где тогда гарантия, что не заблуждаетесь и вы, распределяя свои свистки и рукоплескания, что в глазах позднейших ваши мысли не предстанут жалкими ошибками, такими же, какими для вас стали суждения старомодной публики XVIII века? Ни интеллектуального кругозора, ни интеллектуальной честности на такую постановку вопроса у Белинского не хватило, но на вопрос о критерии оценки достало. Немного забежим вперед.
Критерием качества является мнение публики, как, напр., для Кантемира: «Что он не поэт, этому доказательством служит то, что он забыт. Старинный слог! Пустое!.. Шекспира сами англичане читают с комментариями». «Разве голос знатоков не утвердил имени гения за Херасковым, а толпа не отвергла этого Российского Гомера и его дюжинных поэм, отказавшись их читать? Кто же был прав: толпа или знатоки? Потом, разве знатоки не отвергли „Руслана и Людмилу”». Впрочем, в многосложном интеллектуальном хозяйстве Белинского и это не решающий, как оказывается, аргумент: «Державина давно уже никто не читает и все знают его только по журнальным фразам да школьным воспоминаниям», что, разумеется, никоим образом не сказывается на оценке его творчества; возможно, в глазах Белинского Державина не читали каким-либо принципиально иным способом, нежели Кантемира или Хераскова. А кроме того, здесь «толпа» противопоставляется «знатокам» — но, оказывается, ее можно противопоставить и народу: «...число читателей Крылова будет беспрестанно умножаться, и придет время, когда они сделаются ходячею философиею народа, в полном смысле этого слова, когда они будут издаваться десятками тысяч экземпляров; они, а вместе с ними и слава Крылова, погаснут только с жизнию народа. Вы скажете: но ведь и авторитеты Тредьяковского, Сумарокова, Хераскова и других были не меньше авторитетов Крылова, Пушкина и Грибоедова? Так — но педанты, толпа и чернь еще не народ». Таким образом появляется прекрасная возможность отнести к «народу» свою референтную группу, а остальным оставить статус «черни» или «педантов»; но очевидно и то, чем мы платим за такого рода умственные удобства.
IV. Несколько слов о Гоголе
У близкого друга критика, Ивана Панаева, есть в воспоминаниях весьма интересный эпизод — как он с другом читал эту элегию в прозе. Это чрезвычайно важный момент. Юноша разочаровался в современной критике — даже ведущий журналист Николай Полевой не понял и не оценил Гоголя. Он искал «нового слова, голоса правды». Он обнаруживает в кофейне номер журнала с продолжением статьи и находит начало; пришедши в восторг, спешит поделиться с другом: «появился такой критик, перед которым Полевой — ничто». Интересен и комментарий применительно к позднейшему времени: «Осмельтесь сказать, что Пушкин не мировой гений, что его время уже проходит, что он не может удовлетворять потребностям нового поколения…»
Итак, Гоголь. Мы видели классический бой репутаций: популярный журналист Полевой восстает против популярного писателя Гоголя, пишет статью, которую рассматривает как решительную битву, и битва действительно становится решающей, в ней гибнет репутация — но чья? Гоголь ни граном своей славы не обязан Белинскому, скорее наоборот — критик прицепил свой вагончик к локомотиву гоголевской популярности. Он мог бы иметь перед Гоголем — и не только перед Гоголем — заслуги, если бы дал верную оценку его творчеству. Предоставим слово Павлу Анненкову с его мастерским обобщением: «Роман этот открывал критике единственную арену, на которой она могла заниматься анализом общественных и бытовых явлений, и Белинский держался за Гоголя и роман его цепко, как за нежданную помощь. Он как бы считал своим жизненным призванием поставить содержание „Мертвых душ” вне возможности предполагать, что в нем таится что-либо другое, кроме художественной, психически и этнографически верной картины современного положения русского общества. Все силы своего критического ума напрягал он для того, чтоб отстранить и уничтожить попытки к допущению каких-либо других, смягчающих выводов из знаменитого романа, кроме тех суровых, строго обличающих, какие прямо из него вытекают».
Сидя в своей квартире, встречаясь с ограниченным кругом собеседников, Белинский не мог, естественно, составить сколько-нибудь адекватного представления о русской жизни (его поразительная характеристика «Евгения Онегина» подчеркивает это). Не в лучшем положении, впрочем, был и Гоголь, если б у него были подобные претензии.