Погибшие, но милые созданья: как продавали любовь в русской классике
От Михаила Чулкова до Леонида Андреева
Обобщенный образ проститутки в русской классике напоминает образ маленького человека, сломленного средой и враждебным миром. Тела несчастных ежедневно умерщвляются, живые чистые души тянутся к свету — и не могут выбраться из неволи, но хотят спасать и быть спасенными. Однако к началу XX века феномен проституции в литературе был переосмыслен неожиданным образом: оказалось, что спасать некому, а главное — некого. Светлана Волошина рассказывает, как продажная любовь лишилась христианских оттенков и погрузилась в мрак отчаяния.
Начнем с основного тезиса: проститутки — самые честные женщины русской литературы XIX века. Традиционно проповедуя высшие гуманистические принципы и антибуржуазные ценности, русская классическая литература не просто не осуждала «падших женщин», но порой даже рассматривала их жизнь как особый вид мученичества, святости, выстраивая их образ на коллизии поруганного, страдающего тела и чистой высокой души. Обозначив основное, стоит отступить по хронологии назад и оговорить исключения.
Один из первых образов женщины легкого поведения в отечественной литературе появляется во второй половине XVIII в. — в романе М. Д. Чулкова «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины». Главная героиня, Мартона, — вдова 19 лет, красивая и с активной жизненной позицией, пытается как можно лучше устроиться в жизни, используя доступные ресурсы и средства. Рассказчица бесхитростно повествует о своих приключениях, смене любовников, их подарках и превратностях судьбы. Этическая сторона вопроса не волнует ни ее, ни автора. Главная установка плутовского романа (именно к этому жанру относится «Повариха») — развлечь читателя, и в этой системе ценностей находчивость, оптимизм и ловкость — основные добродетели. Несмотря на более чем сомнительные нравственные качества героини, ее простодушие и изящный язык автора не могут не внушать симпатии:
Первое сие свидание было у нас торгом, и мы ни о чем больше не говорили, как заключали контракт, он торговал мои прелести, а я уступала ему оные за приличную цену, и обязалися мы потом расписками, в которых была посредником любовь, а содержательница моя свидетелем; а как такие контракты не объявляются никогда в полиции, то остался он у нас и без всякого приказного порядка ненарушимым. Господин положил посещать меня часто, а я обещалася принимать его во всякое время, и так с тем расстались.
Одно из первых художественных произведений XIX в., где действует девица легкого поведения, — «Невский проспект» Гоголя.
Здесь стоит оговориться: незнакомка с Невского проспекта в повести почти не действует, а лишь выступает в качестве объекта любви, точнее, грез и фантазий главного героя — художника Пискарева. О самой девице читатель узнает мало: она юна, свежа и прекрасна, но глупа и пошла.
 В центре повести — романтическая коллизия между миром идеальным и материальным. Герой не может пережить несоответствия «должного», т. е. идеального образа красотки и ее «реальной» ипостаси. Пискарев делает попытку преодолеть этот программный для романтизма разрыв, предложив ей брак и соблазняя идиллическими картинами семейной идиллии. Ответ проститутки рушит и поэтику, и идею романтизма: «Как можно, — прервала она речь с выражением какого-то презрения. — Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою».
В центре повести — романтическая коллизия между миром идеальным и материальным. Герой не может пережить несоответствия «должного», т. е. идеального образа красотки и ее «реальной» ипостаси. Пискарев делает попытку преодолеть этот программный для романтизма разрыв, предложив ей брак и соблазняя идиллическими картинами семейной идиллии. Ответ проститутки рушит и поэтику, и идею романтизма: «Как можно, — прервала она речь с выражением какого-то презрения. — Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою».
Пошлая проститутка в идеальном мире снов и навеянных опиумом видений Пискарева — чистый ангел, и принципиальная несовместимость двух миров доводит художника до самоубийства.
В дальнейшей разработке темы «падших женщин» счастливо сошлись все излюбленные идеи отечественных писателей: христианство с притчами о безымянной грешнице и Марии Магдалине; «теория среды», выдвинутая натуральной школой с твердым убеждением — все беды происходят от несовершенства социального строя; идея о «маленьком человеке», вынужденном подчиняться силе вещей; лживость «светского общества», прикрывающего свои пороки приличными манерами.
Если вопрос о сущности, характере и душевных качествах «жертв общественного темперамента» в текстах русских писателей решался в разных вариациях, то способ спасения на протяжении большей части века предлагался один — женитьба. Брак предполагал кардинальное изменение социального статуса женщины, неизбежно влекущее за собой и духовное перерождение. К тому же в медленно эволюционировавшей экономике Российской империи трудоустройство «свободных» женщин было маловозможным — и оттого закономерно не могло появиться в литературе. Устройство швейных мастерских на социалистических началах в романе Чернышевского — явление чисто фантастическое (и в условиях реальной России второй половины XIX в. — нереализуемое, что подтвердил провал многих стартапов, основанных на этой сюжетной схеме романа).
Итак, основным способом спасения оставался брак. Этот сюжет одним из первых программно описал идеолог «новых людей» — Некрасов:
Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавший порок <...>
Грустя напрасно и бесплодно,
Не пригревай змеи в груди
И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!
В связи с этим стихотворением стоит отметить любопытную черту произведений русской литературы о «падших созданиях» — гипертекстовость. Почти каждое последующее произведение отсылает к предыдущим, развивает их идеи или полемизирует с ними. Так, Достоевский взял часть процитированного стихотворения Некрасова в качестве эпиграфа для «Записок из подполья» и совершенно иначе интерпретировал его сюжет об «извлечении падшей души».
«Человек из подполья» читает работнице борделя проповедь об ужасах ее положения, о «нелепой, как паук, идее разврата, который без любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается». Сначала раздраженно резонерствует, потом увлекается, излагает «свои заветные идейки, в углу выжитые» — и достигает результата, которого и не ожидал. Лиза оказывается «чистым сердцем» и чистой же душой:
И как мало, мало, — думал я мимоходом, — нужно было слов, как мало нужно было идиллии (да и идиллии-то еще напускной, книжной, сочиненной), чтоб тотчас же и повернуть всю человеческую душу по-своему. То-то девственность! То-то свежесть-то почвы!
В полемическом прочтении заезженного сюжета Достоевский разворачивает новые смыслы, связанные с этим культурным и социальным феноменом. Оказывается, возродить живую душу в поруганном человеке можно даже «книжной и сочиненной» речью, проповедью, в которую сам раздраженный и циничный резонер не верит. Кроме того, примитивный сюжет «спасения» из деревянной некрасовской стихотворной пропаганды может «сработать» разве что в самых «сладких» и совершенно фантастических мечтах — то есть тогда, когда нет опасности его воплощения в реальной жизни.
Так, герой из подполья, испугавшись произведенным на Лизу эффектом, беспокоится, что она вправду бросит «мрак заблужденья» и придет к нему.
Прошел, однако ж, день, другой, третий — она не приходила, и я начинал успокоиваться. Особенно ободрялся и разгуливался я после девяти часов, даже начинал иногда мечтать и довольно сладко: «Я, например, спасаю Лизу, именно тем, что она ко мне ходит, а я ей говорю... Я ее развиваю, образовываю. Я, наконец, замечаю, что она меня любит <...> Но теперь, теперь — ты моя, ты мое созданье, ты чиста, прекрасна, ты прекрасная жена моя. «И в дом мой смело и свободно Хозяйкой полною войди!» Затем мы начинаем жить-поживать, едем за границу и т. д., и т. д... Одним словом, самому подло становилось...
И наконец, настоящее «возрождение» требуется не столько «падшей женщине», сколько герою. Лирический герой некрасовского стихотворения в своем снисходительном «прощении» («Я понял все, дитя несчастья! / Я все простил и все забыл») не так далек от лицемерного и озлобленного героя из подполья, наставляющего женщину на путь истинный.
Пришло мне тоже в взбудораженную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мной в ту ночь.
Герой из подполья остается верен своему характеру и спасения от Лизы не принимает, оскорбляя и прогоняя ее.
Образ Лизы эволюционировал в героиню «Преступления и наказания» Соню Мармеладову. Антиномия телесного ничтожества, мученичества за ближних — и живой души, высочайших духовных качеств, достигает в образе Сони максимума. Соня продает свое тело, чтобы обеспечить мачеху и ее детей, Соня следует за Раскольниковым в Сибирь, и его «воскресение» происходит во многом благодаря ее любви и влиянию. Пожалуй, этот персонаж настолько перегружен авторской идеологией, что вызывает минимальный эмоциональный отклик у читателя, но зато не оставляет никаких сомнений в «месседже» Достоевского. Это грешница, которой «прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много», — и здесь автор полярно далек от тривиального и пошлого понимания характера этой любви (именно за такое понимание Достоевский осуждал адвоката в деле Каировой, описанном им в «Дневнике писателя»). Ничтожная телесность, доведенная в случае Сони почти до аскезы, умерщвления и поругания тела, везде соседствует с описаниями чистоты (и оттого — силы) Сониного духа и ее совершенно незапятнанной души. (Соня порой выступает как носительница нового вида святости, юродства. Впрочем, юродивой называет Соню и Раскольников.)
 Сонина душевная чистота проявляется в частых сравнениях ее с ребенком (она выглядит как ребенок, конфузится и робеет, «как маленький ребенок») и с птицей («взволновалась и даже раздражилась Соня, точь-в-точь как если бы рассердилась канарейка или какая другая маленькая птичка»). Оба сравнения также отсылают читателя к библейским образам невинности и чистоты.
Сонина душевная чистота проявляется в частых сравнениях ее с ребенком (она выглядит как ребенок, конфузится и робеет, «как маленький ребенок») и с птицей («взволновалась и даже раздражилась Соня, точь-в-точь как если бы рассердилась канарейка или какая другая маленькая птичка»). Оба сравнения также отсылают читателя к библейским образам невинности и чистоты.
Своеобразная вариация сюжета о спасении «наоборот», то есть о большей необходимости спасения «клиента», чем «падшей женщины», — роман Л. Н. Толстого «Воскресение». Раскаяние Нехлюдова в том, что его связь с Катюшей Масловой сломала ей жизнь и превратила в проститутку, желание искупления, намечают его путь к «воскресению» души и человечности. Любопытно, что осужденная Маслова отказывается от брака с Нехлюдовым: она понимает, что этот брак был бы ложным средством спасения.
Вообще «камелий» и «падших созданий» разной степени самосознания, доходов, образования и душевности в русской литературе второй половины столетия предостаточно. Однако эти тексты — рассказы, повести, фельетоны — в основном ограничиваются внешними описаниями быта и образа жизни женщин, и маловариативны. Бедных девушек из низших сословий заставляют заниматься позорным трудом тяжелые жизненные обстоятельства. Этот слой «падших» — ипостась «маленького человека», они кроткие, душевные и чуткие в меру их умственного кругозора, часто умирают от чахотки (авторы не решаются назначить своим героиням иные болезни, обусловленные их профессиональными рисками, — это означало бы кардинальное снижение гуманистического пафоса). Но эти «существа» обладают гордостью, не дающей им принимать жалость и помощь.
«Камелии», то есть дорогие проститутки и содержанки, обычно представлены на контрасте внешнего блеска и «гламурной» жизни — и полной духовной и интеллектуальной нищеты. Таких камелий с удовольствием (и, видимо, некоторым знанием дела) представляет И. И. Панаев в своих фельетонах. Он посвящает читателя в тонкие различия «камелий» немецкого (Шарлотта Федоровна), французского (Арманс) и отечественного (ничего заслуживающего внимания) происхождения, но дальше банального осуждения нравов светского общества не идет.
Арманс — француженка, и, несмотря на то, что ее образование немного выше образования Луизы, она умеет бросать пыль в глаза своей болтовней и поддерживать разговор. Она очень весела, жива и находчива; она может исполнять какие угодно роли: разыгрывать недоступную даму и вдруг превращаться в самую разгульную и отчаянную лоретку.
Максимальное количество деталей быта «падших женщин» и всей отечественной индустрии продажи тела можно найти в объемном романе В. В. Крестовского «Петербургские трущобы». Читателя не может не восхищать основательное знакомство автора со всем спектром порочных обычаев петербургского общества середины века: от самых дорогих заведений профессиональных сводней вроде генеральши фон Шпильце, поставляющей «свежий» товар по индивидуальному заказу, до притонов на Сенной площади — последнего приюта спивающихся бродяжек.
 Следуя традициям натуральной школы, Крестовский описывает индустрию порока максимально фотографично (точнее, дагерротипно), не встраивая эти описания в заданную идеологическую схему. Однако и детали, и само обилие «падших» героинь не могут не ужасать: юная и чистая княжна Анна Чечевинская, соблазненная и брошенная опытным великосветским повесой, превращается в вечно пьяную Чуху, продающую свое рано постаревшее тело за гроши. Ее внебрачная дочь Маша, воспитанная в приемном семействе и позже проданная вездесущей генеральшей сыну опытного великосветского повесы, также оказывается в итоге в доме терпимости. В таком же доме оказывается и любящая дочь старенького немца-тапера (подрабатывающего в том же срамном доме игрой на фортепьянах). А уж нищим проституткам, больным, оборванным и почти утратившим человеческий облик, — несть числа.
Следуя традициям натуральной школы, Крестовский описывает индустрию порока максимально фотографично (точнее, дагерротипно), не встраивая эти описания в заданную идеологическую схему. Однако и детали, и само обилие «падших» героинь не могут не ужасать: юная и чистая княжна Анна Чечевинская, соблазненная и брошенная опытным великосветским повесой, превращается в вечно пьяную Чуху, продающую свое рано постаревшее тело за гроши. Ее внебрачная дочь Маша, воспитанная в приемном семействе и позже проданная вездесущей генеральшей сыну опытного великосветского повесы, также оказывается в итоге в доме терпимости. В таком же доме оказывается и любящая дочь старенького немца-тапера (подрабатывающего в том же срамном доме игрой на фортепьянах). А уж нищим проституткам, больным, оборванным и почти утратившим человеческий облик, — несть числа.
Чудовищны образы девочек-нищенок, чуть ли не с младенчества вынужденных зарабатывать на еду проституцией:
Вот между ними одна, небольшого роста, очень худощавая на вид девочка; лет ей может быть около тринадцати, но во всей ее маленькой, болезненной фигурке сказывается уже нечто старческое, немощное, нечто отжившее даже не живя... но какая голодная алчность светится в этих лихорадочно горящих запалых глазах, обведенных темными, синеватыми кругами — явный признак неестественного истощения... И это дитя цинично сидит на коленях какого-то огромного, дюжего атлета, куря предложенную им трубку кисловато-горькой, крепчайшей махорки, и залпом, стакан за стаканом, с небольшими промежутками пьет его водку.
Эта девочка — дитя Малинника и Вяземского дома. Там она растет, там и родилась. От кого? Неизвестно. И как успела дорасти до этого возраста — тоже один только бог святой знает... Это был какой-то звереныш, да ее и звали по-звериному: кто-то, где-то и когда-то назвал ее крысой, так она крысой и пошла на всю жизнь свою.
С этой несчастной «крысой» связана и явно репортерская зарисовка Крестовского. В одно из посещений притона — Малинника — он накормил этого истощенного ребенка. Девочка сначала не могла поверить, что предложение не насмешка, а после — что угощение дано даром.
— Ну, идем, что ли? — вызывающим тоном предложила она.
— Куда?.. Зачем? — удивился я в свою очередь. — Я никуда не пойду...
— Как! Так ты это, стало быть, даром кормил меня? — как-то странно протянула она, продолжая оглядывать.
— Дурак! — отрывисто, с пренебрежительным презрением буркнула Крыса и быстро удалилась от нашего столика.
Иногда кажется, что автор не совсем справляется с обилием материала, и читатель остается в неведении: или это дань жанру мелодрамы, или в самом деле столица Российской империи не уступала по количеству нищих обездоленных проституток викторианскому Лондону. Впрочем, одно не исключает другое, и впечатление от страниц романа, посвященных падшим женщинам, наводит на выводы скорее не литературоведческого, а социологического характера. Профессионализация женского труда в середине и второй трети XIX в. была так низка, что вышедшей по разным обстоятельствам из семьи женщине почти невозможно было заработать на жизнь, не потеряв безвозвратно своего социального и человеческого статуса.
Что делать с несчастными — хорошими и не очень — падшими женщинами, автор не знает, поэтому к финалу романа они или умирают, или собираются умереть.
Если одни писатели и их герои ужасались открытости разврата, в которой живут проститутки, другие интерпретировали эту открытость как принципиальный отказ от фальши, как свидетельство честности и искренности — и соответствующим образом выстраивали характер и сюжетные коллизии. Если Гоголь в «Невском проспекте» сетовал, что падшая женщина «вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины», то во второй половине века эти «ухватки» считывались как бунтарская прямота, свидетельство силы и смелость смотреть правде в глаза.
Содержанки и проститутки в романе Чернышевского «Что делать?» — самые честные женщины: они хоть и живут так же, как и «приличные», за счет мужчин, однако открыто берут у последних деньги, не прикрывая этот товарно-денежный обмен светскими приличиями и обманами. Более того, честная проститутка, вставшая на путь возрождения, соединяется с мужчиной только по любви («у меня было много приятелей, человек пять... я к ним ко всем имела расположение, так это мне было ничего... если расположение имеешь, это все равно, когда тут нет обману; другое дело, если бы обман был», — авторитетно, хоть и косноязычно заявляет перевоспитавшаяся Крюкова).
Именно честной содержанке в романе Чернышевского, а, например, не тургеневской барышне, принадлежит известная фраза «Умри, но не давай поцелуя без любви!».
Конечно, и кокотка Жюли, и перевоспитавшаяся проститутка Крюкова из швейной мастерской Веры Павловны не имеют отношения к «реальным» людям и представляют собой, как и остальные герои романа, схемы, поведенческие модели для «новых» людей.
Узнав, что Верочку собираются втянуть в интригу с участием молодого богатого развратника, Жюли моментально заявляет свой протест и жизненное кредо:
Я хотела жить, я хотела любить, — боже! ведь это не грех... Дай мне силу сделаться опять уличною женщиною в Париже, я не прошу у тебя ничего другого, я недостойна ничего другого, но освободи меня... от этих гнусных людей!.. француженка свободна. Француженка борется — она падает, но она борется! Я не допущу!.. Я известна всему Петербургу как самая дурная женщина. Но я честная женщина.
 После долгого перерыва в чтении текстов Чернышевского может показаться, что эта честная женщина, говорящая в манере капитана Лебядкина, нетрезва или же является персонажем сатирическим. Но нет, Чернышевский серьезен в отношении идеологии и заставляет свою падшую героиню снова и снова манифестировать: разврат — не в соитии по любви, а в неправильных принципах жизни с партнером.
После долгого перерыва в чтении текстов Чернышевского может показаться, что эта честная женщина, говорящая в манере капитана Лебядкина, нетрезва или же является персонажем сатирическим. Но нет, Чернышевский серьезен в отношении идеологии и заставляет свою падшую героиню снова и снова манифестировать: разврат — не в соитии по любви, а в неправильных принципах жизни с партнером.
Не тем я развращена, за что называют женщину погибшей, не тем, что было со мною, что я терпела, от чего страдала, не тем я развращена, что тело мое было предано поруганью, а тем, что я привыкла к праздности, к роскоши, не в силах жить сама собою, нуждаюсь в других, угождаю, делаю то, чего не хочу, — вот это разврат!
«Новые люди» все это правильно понимают: Вера Павловна с мужем Лопуховым свободно навещают кокотку Жюли, нимало не стесняясь обывательских правил приличий.
Пожалуй, роман «Что делать?» — единственный в русской классической литературе, где клишированный сюжет о спасении падшей женщины любовью получает счастливый исход: вероятно, такое возможно лишь в жанре утопии, принципиально (в случае Чернышевского) апсихологическом. Любовь хорошего человека и правильный труд создадут условия, в которых женщина непременно покинет путь порока для разумного построения жизни. Так произошло с упомянутой Крюковой, спасшейся из мрака заблужденья с помощью любви Кирсанова и работы в швейной мастерской.
Пресловутая честность проституток, точнее, отсутствие в их сфере деятельности светской и общечеловеческой фальши получает неожиданное прочтение в поздних текстах: революционер в рассказе Л. Андреева не справляется с темной «правдой», отказывается от идеалов и дает себя арестовать без сопротивления, а знаменитого штабс-капитана Рыбникова из рассказа Куприна разоблачает не хитрый журналист, а тоже проститутка.
...Она уже давно привыкла к внешним обрядам и постыдным подробностям любви и исполняла их каждый день по нескольку раз — механически, равнодушно, часто с молчаливым отвращением... К тому же все они были грубы, требовательны и лишены самого простейшего стыда, были большей частью безобразно смешны, как только может быть безобразен и смешон современный мужчина в нижнем белье. Но этот маленький пожилой офицер производил какое-то особенное, новое, привлекательное впечатление. Все движения его отличались тихой и вкрадчивой осторожностью. Его ласки, поцелуи и прикосновения были невиданно нежны.
Нежность, как известно, не спасла фальшивого капитана от разоблачения.
Иногда все упомянутые добродетели жриц продажной любви вместе с известными сюжетными ходами встречаются в одном тексте — и превращают его в мелодраму.
Сквозная героиня двух рассказов Гаршина — «Происшествие» и «Надежда Николаевна» — умна, образованна, горда, очень несчастна и загадочна. В длинном внутреннем монологе («я сама презираемое и презренное существо») героиня рассказывает о человеке, который полюбил ее и звал замуж, однако она не могла принять предложение («Жалко мне его? Нет, не жалко. Что я могу сделать для него? Выйти за него замуж? Да разве я смею? И разве же это не будет такою же продажею? Господи, да нет, это еще хуже!»). И причина отказа, и весь психологический облик героини туманны, но от неразделенной любви несостоявшийся жених кончает собой.
В «Надежде Николаевне» в ту же героиню влюбляются уже двое (или трое), но в финале один из претендентов на ее руку и спасение убивает ее и погибает сам, а главный герой в скором времени тоже собирается умереть.
Пожалуй, в качестве комментария к обоим рассказам и предлагаемому в них образу проститутки стоит привести цитату критика Н. К. Михайловского, остановившегося перед текстом «с некоторым не совсем приятным недоумением».
Пожалуй, самому обстоятельному описанию быта и жизни домов терпимости на рубеже веков читатели обязаны Куприну и его повести «Яма». Из повести можно узнать, например, распорядок дня работниц борделя, их наряды, меню их обеда, интерьеры домов разной ценовой категории, прейскурант услуг, происхождение, характеры и интеллектуальный горизонт девиц, социальное положение их клиентов.
Не самое удачное произведением Куприна «Яма» производит тяжелое и сильное впечатление в первую очередь благодаря обилию явно достоверных подробностей.
 Дом терпимости — особый, уродливый мир со своими неписанными законами, порядками, обычаями и суевериями, сложной иерархией отношений между девицами и их клиентами. Отношения эти — глубоко порочные, и непосредственная продажа тела здесь только первое звено в длинной цепи извращенной любви.
Дом терпимости — особый, уродливый мир со своими неписанными законами, порядками, обычаями и суевериями, сложной иерархией отношений между девицами и их клиентами. Отношения эти — глубоко порочные, и непосредственная продажа тела здесь только первое звено в длинной цепи извращенной любви.
Так, Куприн называет работниц борделя «бесполыми»: специфика и плотный график работы привели к полному отсутствию влечения их к мужчинам, однако все работницы с интересом ждут вечера и прихода «гостей». Помимо клиентов, некоторые девицы имеют «любовников» — в отчаянном желании сохранить иллюзию человеческих отношений.
Несмотря на то что большинство женщин испытывало к мужчинам, за исключением любовников, полное, даже несколько брезгливое равнодушие, в их душах перед каждым вечером все-таки оживали и шевелились смутные надежды: неизвестно, кто их выберет, не случится ли чего-нибудь необыкновенного, смешного или увлекательного, не удивит ли гость своей щедростью, не будет ли какого-нибудь чуда, которое перевернет всю жизнь? <...> Кроме того, несмотря на свою бесполость, они все-таки не утеряли самого главного, инстинктивного стремления женщин — нравиться.
Среди неписаных правил Куприн упоминает и чувство отвращения работниц к своему ремеслу. В этом программном отвращении, возможно, проявлялась некая нравственная установка: если волею обстоятельств женщина начинала служить пороку, становилась социальным изгоем и объектом презрения, то могла хотя бы уважать себя за то, что этот порок также осуждала и не находила в нем ничего, кроме тяжелой мучительной обязанности.
Так, встречающихся в борделях нимфоманок их товарки не просто не уважали, но испытывали к ним брезгливое чувство:
Подруги издеваются над нею и несколько презирают ее за этот порок, точно как за какую-то измену корпоративной вражде к мужчинам.
Нюра очень похоже передразнивает ее вздохи, стоны, выкрики и страстные слова, от которых она никогда не может удержаться в минуты экстаза и которые бывают слышны через две или три перегородки в соседних комнатах. Про Пашу ходит слух, что она вовсе не по нужде и не соблазном или обманом попала в публичный дом, а поступила сама, добровольно, следуя своему ужасному ненасытному инстинкту. Но хозяйка дома и обе экономки всячески балуют Пашу и поощряют ее безумную слабость, потому что благодаря ей Паша идет нарасхват и зарабатывает вчетверо, впятеро больше любой из остальных девушек.
Из-за профессиональной ненависти, «корпоративной вражды» к мужчинам потребность в любви и нежности выражается у проституток в лесбийской любви.
 Кадр из сериала «Яма»
Кадр из сериала «Яма»В «Яме» Куприн, кажется, решил описать максимальное число вариаций характеров проституток и их отношений с клиентами. Сюжет не обошелся и без попытки «спасения» девушки из дома терпимости: идеалистически настроенный студент выкупает ее, пытается дать образование и сделать полноправным членом общества. Эта схема становится у Куприна своеобразной проверкой героя любовью. Проститутка Люба оказалась любящей, чистой женщиной и старательной ученицей, однако студент проверку не выдержал и вскоре бросил и свои попытки, и Любу.
В сниженных бытовых реалиях продажной любви знаменитый тургеневский конфликт — сильной духом девушки и слабого характером мужчины, неспособного взять на себя ответственность и реализовать свою идею — также приводит к печальному результату. Более того, из-за сугубой социальной незащищенности «падших созданий» их участь куда трагичней, чем у дворянских барышень: возвращение в профессию губит их безвозвратно.
Определенным итогом сюжетных схем, связанных с темой проституции, стал рассказ Чехова «Припадок». Здесь преемственность темы проявилась уже в самом появлении рассказа: это был чеховский вклад в сборник на смерть Гаршина.
В «Припадке» проявились все лучшие черты чеховского таланта: деликатное раскрытие темы («Предмет, как мне кажется, настолько щекотлив, что малейший пустяк может показаться слоном», — признавался сам автор), тонкая горькая ирония и атмосфера принципиальной безысходности проблемы.
Главный герой Васильев — умный, нервный, предельно честный перед собой человек — в один из вечеров посещает с приятелями несколько домов терпимости и обнаруживает, что ужас этого института — в его пошлой обыденности, в невозможности найти жертв и виноватых, в принципиальной неискоренимости этого зла. Феномен проституции становится для Васильева личной трагедией.
Между дорогими и дешевыми заведениями нет разницы: уродливая пошлость — конституирующая их черта, так же, как и самого явления.
После того, как он побывал в восьми домах, его уж не удивляли ни цвета платьев, ни длинные шлейфы, ни яркие банты, ни матросские костюмы, ни густая фиолетовая окраска щек; он понимал, что всё это здесь так и нужно, что если бы хоть одна из женщин оделась по-человечески или если бы на стене повесили порядочную гравюру, то от этого пострадал бы общий тон всего переулка.
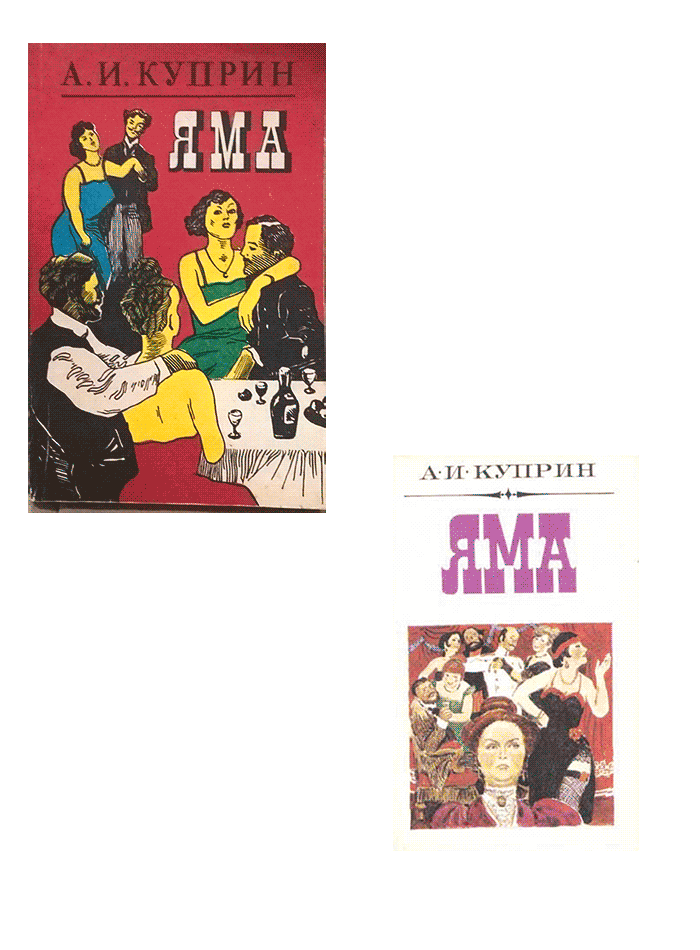 Пожалуй, лишь Чехов мог выдержать идеальный баланс между описанием катастрофического в своей бесчеловечности института продажи тела — и отстраняющей иронией, позволяющей снизить пафос этого описания до полутонов, действующих на читателя сильнее крика.
Пожалуй, лишь Чехов мог выдержать идеальный баланс между описанием катастрофического в своей бесчеловечности института продажи тела — и отстраняющей иронией, позволяющей снизить пафос этого описания до полутонов, действующих на читателя сильнее крика.
В образе Васильева Чехов отразил многие черты Гаршина: чувство ответственности за человека и его страдания, боль от бессилия, не дающего изменить порядок вещей. Размышляя, Васильев сводит воедино все известные и испробованные методы спасения падших женщин — и понимает, что спасения нет:
Все эти немногочисленные попытки, — думал Васильев, — можно разделить на три группы. Одни, выкупив из притона женщину, нанимали для нее нумер, покупали ей швейную машинку, и она делалась швеей. И выкупивший, вольно или невольно, делал ее своей содержанкой, потом, кончив курс, уезжал и сдавал ее на руки другому порядочному человеку, как какую-нибудь вещь. И падшая оставалась падшею. Другие, выкупив, тоже нанимали для нее отдельный нумер, покупали неизбежную швейную машинку, пускали в ход грамоту, проповеди, чтение книжек. Женщина жила и шила, пока это для нее было интересно и ново, потом же, соскучившись, начинала тайком от проповедников принимать мужчин или же убегала назад туда, где можно спать до трех часов, пить кофе и сытно обедать. Третьи, самые горячие и самоотверженные, делали смелый, решительный шаг. Они женились. И когда наглое, избалованное или тупое, забитое животное становилось женою, хозяйкой и потом матерью, то это переворачивало вверх дном ее жизнь и мировоззрение, так что потом в жене и в матери трудно было узнать бывшую падшую женщину. Да, женитьба лучшее и, пожалуй, единственное средство. — Но невозможное! — сказал вслух Васильев и повалился в постель. — Я первый не мог бы жениться! Для этого надо быть святым, не уметь ненавидеть и не знать отвращения. Но допустим, что я, медик и художник пересилили себя и женились, что все они выйдут замуж. Но какой же вывод? Вывод какой? А тот вывод, что пока здесь, в Москве, они будут выходить замуж, смоленский бухгалтер развратит новую партию, и эта партия хлынет сюда на вакантные места с саратовскими, нижегородскими, варшавскими...
К началу XX века писатели открыли еще одну неприятную деталь. Оказалось, что «жертвы общественного темперамента» — может быть, и жертвы, но давно эволюционировавшие в хищных, расчетливых и холодных профессионалок. Их витальность и сила духа теперь служат «тьме», и они не только не способны к «возрождению» из «мрака заблужденья», но давно устроились в этом мраке с максимально возможным комфортом и заманивают туда зазевавшихся мужчин.
Мария Магдалина к началу XX века превратилась в Юдифь, хладнокровно убивающую Олоферна, — но не ради спасения родины, а из-за своеобразного понимания справедливости: если она живет во тьме, то и другие не должны надеяться на рай и спасение.
Так, проститутка в рассказе Л. Андреева «Тьма» сражает укрывшегося в доме терпимости революционера своей сентенцией: «Какое же ты имеешь право быть хорошим, когда я — плохая?». Оказалось — никакого. Чистый помыслами революционер, думающий о благе обездоленных и в своем служении чистой идее остававшийся до 26 лет девственником, решил спрятаться от погони в борделе — и нашел там погибель.
Проститутка Люба считает, что спасать падших может только тот, кто сам упал:
А потом, когда-нибудь, приду к ней, или в кабак, или на каторгу, и скажу: теперь мне не стыдно, теперь я ни в чем не виноват перед вами, теперь я сам такой же, как вы, грязный, падший, несчастный. Или выйду на площадь, падший, и скажу: смотрите, какой я! Все у меня было: и ум, и честь, и достоинство, и даже — страшно подумать — бессмертие; и все это я бросил под ноги проститутке, от всего отказался только потому, что она плохая...
Впрочем, неизвестно, искренний ли это аргумент, или же всего лишь дьявольская уловка, чтоб затянуть клиента в омут.
Удивительным образом известная тема «слезинки ребенка» Достоевского обратилась в свою противоположность. Из отказа от рая в мире, где страдают дети, предельная гуманистическая идея стала манифестом «тьмы»: женщина с «дна», чей социальный и человеческий статус так низок, что ее и за человека не считают, чье тело продано и не принадлежит ей, имеет власть запретить «быть хорошим» и строить дивный новый мир лучшим и чистым людям. Сила и правда — на стороне этой «тьмы», и честный революционер, приняв эту убийственную для него логику, сознательно отказывается от борьбы и от «света».
Его спутница так же сильна духом, как и ее предшественницы из более ранних текстов, но сила эта — сила смерти; падшая женщина сохранила «душу живу», но душа эта давно продана.
Л. Андреев настойчиво подчеркивает эту связь обитательниц дома с тьмой мира смерти: черные провалы глаз, бледная кожа, а главный герой, видя в зеркале отражение себя и спутницы, думает о похоронах.
Вспомнил и он эту черную, немую траурную пару в золотой раме зеркала и свое тогдашнее ощущение — как на похоронах, — и вдруг стало так невыносимо больно...
 Причитания Любы, ощутившей силу своей власти над клиентом, похожи на обрядовую брачную песню, — как если бы ее пела смерть:
Причитания Любы, ощутившей силу своей власти над клиентом, похожи на обрядовую брачную песню, — как если бы ее пела смерть:
— Миленький мой! Пить с тобою будем. Плакать с тобою будем — ох, как сладко плакать будем, миленький ты мой... Как увидела тебя сегодня в зеркале, так сразу и метнулося: вот он, мой суженый, вот он, мой миленький. И не знаю я, кто ты — брат ли ты мой, или жених, — а весь родной, весь близкий, весь желанненький...
Сцена же символического отказа революционера от своей прошлой «чистой» жизни — совершенный danse macabre или сцена из пушкинских «Бесов».
Эта толстая и еще одна со злым, птичьим, старым лицом, на котором белила лежали, как грязная штукатурка на стене, были совершенно пьяны, остальные же сильно навеселе. И все это полуголое, откровенное, хихикающее окружило его, и сразу нестерпимо запахло телом, портером, все теми же влажными, мыльными духами.
...Плакали от смеха, валились друг на друга, стонали; тоненьким голоском кудахтала толстая и бессильно падала со стула; наконец, глядя на них, залился хохотом он сам. Точно весь сатанинский мир собрался сюда, чтобы хохотом проводить в могилу маленькую, невинненькую честность, — и хохотала тихо сама умершая честность.
О верности и любви нет теперь и речи: проститутка Любка, в ночном разговоре с революционером представлявшаяся почти софистическим чертом из «Братьев Карамазовых», утром превращается в обычную пошлую девку, кокетничающую с представителями органов правопорядка.
Андреевская «Тьма» представляет собой символический итог развития темы «погибших, но милых созданий» в русской классической литературе. От «маленького человека», сломленного средой и враждебным миром, через контрапункт поруганного, ежедневно умерщвляемого тела и живой чистой души, к началу XX века авторы переосмысляют феномен проституции — и обнаруживают смыслы, противоречащие основному посылу русской литературы: «спасать» некому, а самое главное — некого.
...ясно было, что дело гораздо хуже, чем можно было думать. Если та виноватая женщина, которая отравилась, называлась падшею, то для всех этих, которые плясали теперь под звуковую путаницу и говорили длинные отвратительные фразы, трудно было подобрать подходящее название. Это были не погибающие, а уже погибшие, — рассуждает герой чеховского рассказа «Припадок».
«Порок есть, — думал он, — но нет ни сознания вины, ни надежды на спасение. Их продают, покупают, топят в вине и в мерзостях, а они, как овцы, тупы, равнодушны и не понимают...»
Но если у Чехова в рассказе действуют хоть женщины и пошлые, неумные, отказавшиеся от своей социальной ипостаси и нимало не страдающие от этого, но все же живые, то в «Тьме» — это мертвые, мертвые тела и мертвые души. Они понимают, что несчастны и им не выбраться в «мир живых», но они и не хотят туда. Тема «спасения» полностью переворачивается: они не хотят выходить «из мрака заблужденья», они затягивают в мрак и тьму живых.
Пожалуй, ни одна другая тема так осязаемо не пресекает традицию русской литературы XIX в. с ее верой в духовность, возрождение и естественное стремление души к свету, как тема «падших» созданий.