Поэзия языка: как понимать стихи Мандельштама
Филологи Вероника Файнберг и Павел Успенский — о новой модели чтения стихов великого поэта
Мария Нестеренко: Расскажите о том, как именно вы предлагаете читать Мандельштама.
 Павел Успенский: Наша книга — о поэтике Мандельштама. Но поэтике, рассмотренной через призму языка, его устройства. Читатели Мандельштама прекрасно знают, что он создал оригинальный, совершенно нестандартный, насквозь метафорический поэтический язык, который — при всей своей сложности — легко «входит» в сознание. Многие строфы и стихи легко запоминаются, вертятся в голове, обладают большим мнемоническим потенциалом. Хотя исследователи всесторонне описали уникальное устройство мандельштамовских смыслов и семантики, особенности его словоупотребления или метафор, один существенный аспект ускользал от системного развернутого исследования.
Павел Успенский: Наша книга — о поэтике Мандельштама. Но поэтике, рассмотренной через призму языка, его устройства. Читатели Мандельштама прекрасно знают, что он создал оригинальный, совершенно нестандартный, насквозь метафорический поэтический язык, который — при всей своей сложности — легко «входит» в сознание. Многие строфы и стихи легко запоминаются, вертятся в голове, обладают большим мнемоническим потенциалом. Хотя исследователи всесторонне описали уникальное устройство мандельштамовских смыслов и семантики, особенности его словоупотребления или метафор, один существенный аспект ускользал от системного развернутого исследования.
Речь идет о том, как в стихах Мандельштама трансформируется идиоматика в широком смысле слова — коллокации, фразеологизмы, пословицы, в целом, устойчивые выражения, готовые «кирпичики» языка. Именно переработка готовых элементов языка часто оказывается основой для новых оригинальных образов, нестандартных метафор. Проще пояснить на примере: если пристально посмотреть на строку «Вооруженный зреньем узких ос», можно заметить, что в ней трансформируется идиома «видно невооруженным глазом или взглядом».
Такого рода трансформациям фразеологии, устойчивых оборотов, иногда простым, иногда весьма сложным, и посвящена наша книга. Нам кажется, что этот механизм во многом отвечает на вопрос: за счет чего Мандельштам создавал такие оригинальные и сложные поэтические высказывания? Понятно, что в его поэтике был целый арсенал разных приемов и способов смыслообразования, но оказалось, что обыгрывание и изменение готовых элементов языка — один из ключевых приемов Мандельштама. В нашей работе предлагается последовательная классификация, описывающая разные типы и способы переработки фразеологии.
 Вероника Файнберг: Кроме того, наша книга затрагивает вопрос «понимания» стихов Мандельштама. Судя по всему, многие люди любят и читают его, не обладая специальными знаниями в области мировой культуры и литературы, то есть не зная тех частностей, которые известны профессиональным литературоведам, изучающим Мандельштама. Например, филолог Ирина Сурат в интервью «Радио свобода»*СМИ признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией цитировала женщину, которая подошла к ней после лекции и сказала: «Я Мандельштама учу наизусть стихотворение за стихотворением, я что-то не понимаю, но в каком-то другом смысле я все это хорошо понимаю». Значит, понимание стихов Мандельштама происходит на каком-то другом, не очень формализуемом уровне, необязательно связанном с «интеллектуальным» чтением, с улавливанием отсылок. И тогда понятно, что необходимо предложить альтернативу интертекстуальному подходу. Хотя, конечно, до определенной степени нужно обладать широким кругозором, но все же есть и другие принципы, работающие в понимании Мандельштама.
Вероника Файнберг: Кроме того, наша книга затрагивает вопрос «понимания» стихов Мандельштама. Судя по всему, многие люди любят и читают его, не обладая специальными знаниями в области мировой культуры и литературы, то есть не зная тех частностей, которые известны профессиональным литературоведам, изучающим Мандельштама. Например, филолог Ирина Сурат в интервью «Радио свобода»*СМИ признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией цитировала женщину, которая подошла к ней после лекции и сказала: «Я Мандельштама учу наизусть стихотворение за стихотворением, я что-то не понимаю, но в каком-то другом смысле я все это хорошо понимаю». Значит, понимание стихов Мандельштама происходит на каком-то другом, не очень формализуемом уровне, необязательно связанном с «интеллектуальным» чтением, с улавливанием отсылок. И тогда понятно, что необходимо предложить альтернативу интертекстуальному подходу. Хотя, конечно, до определенной степени нужно обладать широким кругозором, но все же есть и другие принципы, работающие в понимании Мандельштама.
ПУ: Да, это очень проблемная зона. Мандельштамоведы находили массу подтекстов, аллюзий, ключей, которые с их точки зрения должны открыть нам истинное значение того, что хотел сказать поэт. Конечно, у Мандельштама есть диалог с мировой культурой, с этим сложно спорить, однако широта и глубина этого разговора, кажется, давно вышла в несколько эзотерическую область. Еще постоянно происходит сдвиг от текста к сознанию поэта: даже если считать, что все найденные ключи и подтексты действительно существуют, они больше говорят о характере мышления Мандельштама, его начитанности, его погруженности в культуру. Мандельштамовед, соответственно, становится проводником в реконструироемое им сознание автора, а не в мир текста. И, конечно, далеко не все, что видят мандельштамоведы, в самом деле видно в его стихах.
ВФ: Но ведь стихи Мандельштама существуют в литературном каноне, что-то сообщают сами по себе, а читатели их понимают! И нам хотелось это понимание хотя бы в какой-то степени формализовать. От чего оно зависит? Мы думаем, что во многом — от устройства языка. С тем же примером «Вооруженный зреньем узких ос» связан интересный эффект. Восприятие не спотыкается на этой строке, она кажется на каком-то уровне кристально ясной. Когда мы с друзьями обсуждали этот пример и говорили им, что здесь трансформируется идиома, многие отвечали: «Да, так и есть!» — и признавались, что никогда об этом не задумывались, не замечали этой трансформации. Мы думаем, что такие трансформации облегчают восприятие, делают текст интуитивно понятным. Их описание дает нам возможность приблизиться к формализации наших читательских эстетических впечатлений.
МН: Интенсивное взаимодействие с мировой культурой свойственно всем поэтам-модернистам, да и поэзии в целом. У Пушкина мы находим отсылки не только к текстам его ближайшего окружения, но и вообще к чему угодно. Но почему-то именно за Мандельштамом закрепилась репутация укорененного в культуре автора, которого не имеет смысла читать, если ты не способен дешифровать максимальное количество отсылок. Почему именно Мандельштам?
ПУ: Об этом можно говорить очень долго. Мне кажется, здесь нет одного ответа, но есть несколько соображений, которые вместе могут соединиться в некоторый многоступенчатый ответ. Во-первых, наверное, сказывается банальная инерция: литературоведение выработало определенный инструментарий, а дальше он последовательно применялся и к модернизму, и к XIX веку. Эта парадигма во многом следовала манифестациям эпохи и Мандельштама в частности. Мы все помним хрестоматийные слова Мандельштама: «акмеизм — это тоска по мировой культуре». Раз Мандельштам — поэт культуры, именно через культуру мы и должны его читать. Во многом это, конечно, справедливо, но так возник сильный перекос в сторону какой-то «гиперкультурности», как будто каждое стихотворение Мандельштама — заведомо конгломерат изощренно продуманных аллюзий, отсылок, реминисценций и т. п.
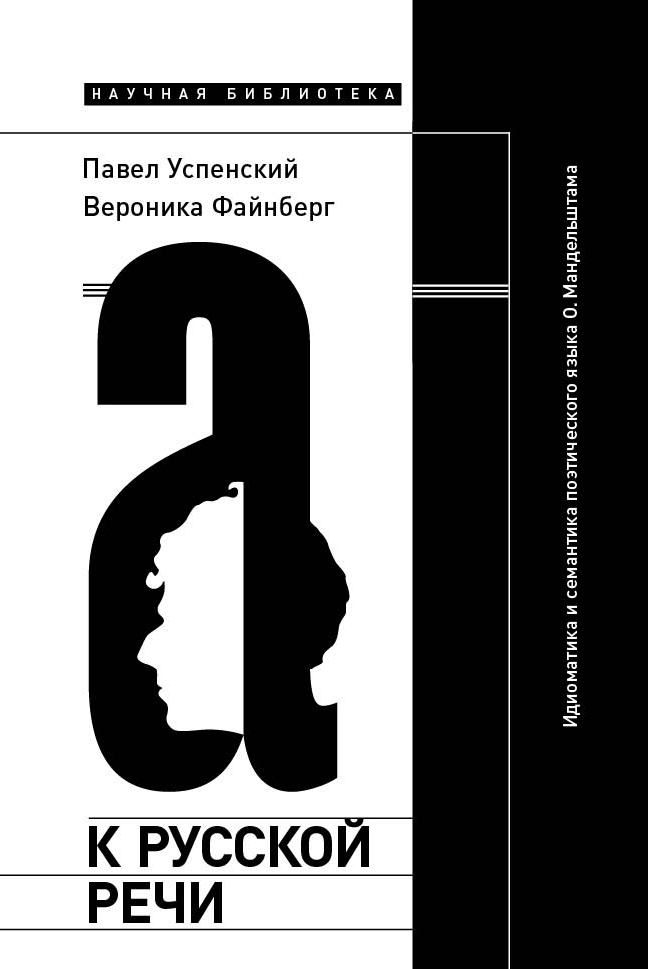 Важно, во-вторых, что аллюзии и отсылки не только есть, но что они определяют смысл текста, который без них заведомо не понятен. Взаимодействие текст+текст существует в любую эпоху. Тут очень многое зависит от исследовательской оптики — как мы на это смотрим и как объясняем. Поверх разных теорий интертекстуальности можно схематично выделить два полюса: интертекстуальная теория в широком и узком смысле слова. Интертекстуальность в широком смысле предполагает, что каждый текст насквозь интертекстуален и каждое слово связано с предшествующим словом культуры, с существующими дискурсами. Все соткано из чужих слов, и можно изучать их устройство, какие-то дискурсивные пропорции, но можно сосредоточиться на смысле текста, потому что он тоже что-то говорит сам по себе, а раз все слова чужие, то их чужесть не маркирована, она не особо влияет на смысл. Парадигма в узком смысле слова расцвела в исследованиях модернизма. В ней очень быстро прижилась идея «подтекста». А «подтекст» ведь такой термин, который постулирует: мы не можем понять смысл исследуемого текста, пока не подключим смысл текста предшествующего. Именно предшествующий текст все определяет, без него ничего не понятно, как будто текст, с которым мы работаем, — темный шифр, недоступный восприятию читателя. Возникает ситуация, в которой мы не можем понять стихотворение Мандельштама, пока не овладеем всеми теми культурными знаниями, которыми обладал даже не Мандельштам, а которые увидел в его тексте мандельштамовед.
Важно, во-вторых, что аллюзии и отсылки не только есть, но что они определяют смысл текста, который без них заведомо не понятен. Взаимодействие текст+текст существует в любую эпоху. Тут очень многое зависит от исследовательской оптики — как мы на это смотрим и как объясняем. Поверх разных теорий интертекстуальности можно схематично выделить два полюса: интертекстуальная теория в широком и узком смысле слова. Интертекстуальность в широком смысле предполагает, что каждый текст насквозь интертекстуален и каждое слово связано с предшествующим словом культуры, с существующими дискурсами. Все соткано из чужих слов, и можно изучать их устройство, какие-то дискурсивные пропорции, но можно сосредоточиться на смысле текста, потому что он тоже что-то говорит сам по себе, а раз все слова чужие, то их чужесть не маркирована, она не особо влияет на смысл. Парадигма в узком смысле слова расцвела в исследованиях модернизма. В ней очень быстро прижилась идея «подтекста». А «подтекст» ведь такой термин, который постулирует: мы не можем понять смысл исследуемого текста, пока не подключим смысл текста предшествующего. Именно предшествующий текст все определяет, без него ничего не понятно, как будто текст, с которым мы работаем, — темный шифр, недоступный восприятию читателя. Возникает ситуация, в которой мы не можем понять стихотворение Мандельштама, пока не овладеем всеми теми культурными знаниями, которыми обладал даже не Мандельштам, а которые увидел в его тексте мандельштамовед.
Так конструируется такой элитарный Мандельштам, понятный только специалисту. Далее можно прийти к еще одному соображению, связанному с генезисом этой конструкции. Вероятно, ответ в том, что она — следствие тех режимов чтения, которые вырабатывали антисоветски настроенные гуманитарии во второй половине века. Юрий Левин в известном докладе 1991 года «Почему я не буду делать доклад о Мандельштаме» с ностальгией говорил о «кухонном мандельштамоведении», о том, что Мандельштам больше не «ворованный воздух» и теперь им может заниматься каждый. Это очень показательно! Для гуманитарной интеллигенции второй половины века было очень важно, с одной стороны, идентифицировать себя через культуру модернизма, отчасти запрещенную, как в случае с Гумилевым, отчасти — как-то бытующую в культурном пространстве (я имею в виду, например, издания модернистов в серии «Библиотека поэта»). Далее, раз этот запретный, не-советский модернизм все-таки есть в культурном поле, совершенно логично отгородить его от профанного, так сказать, восприятия. Как писал Баратынский — «непосвященных рук бездарно возложенье». Рядовой читатель с точки зрения литературоведа не может понять, что сказано в тексте, пока не разберется со всей мировой культурой. Поэтому подтекстуальные штудии так прижились и активно разрабатывались. Есть отдельная история о том, что Кирилл Тарановский, придумавший так трактовать модернизм, был эмигрантом, и, как нам кажется, на его идеях сказался хорошо известный консервативный характер эмигрантской культуры. Словом, как показывает мандельштамоведческая практика, такие стратегии чтения перешли и в постсоветское время.
ВФ: Есть еще одна причина большой популярности этого способа чтения: Мандельштам очень сложный, и люди, привыкшие не просто читать стихи, но и думать над ними, ищут пути разрешения этой сложности, ищут разгадки, как детективы. То есть сама сложность индуцирует поиск отгадок, заставляет думать о стихотворении как о шифре. Иногда эта охота настолько поглощает, что читатели немного в ней растворяются и забывают про сам текст. Но, конечно, есть блестящие филологи, убедительно отлавливающие чужое слово и показывающие, как диалог с каким-то писателем или поэтом отражается в том или ином произведении.
И можно отдельно предположить, почему вообще возникает стремление так прочитывать поэзию. Мы знаем, что и мировой, и русский модернизм действительно ориентирован на чужое слово, все время играет с предшествующими текстами. Но всегда ли они влияют на смысл? Ведь интертекстуальность можно анализировать по-другому: так, у нее есть мемориальная функция. Она призвана напомнить о предшествующих текстах в условиях катастрофы XX века, потому что начиная с 1905 года культура претерпевала самые разные метаморфозы, подчас весьма драматические. Соответственно, обилие чужого слова для лирики постсимволизма (с символизмом немного другая история) призвано не дать культуре забыться: ты как поэт говоришь чужими словами, но проговариваешь при этом свои мысли. Тут можно анализировать смыслы автора и отдельно регистрировать ту версию канона, которую он считает важной. Если авторский смысл и канон разделить, станет понятным, что необязательно каждой цитате приписывать какой-то особый статус и влияние на смысл.
МН: При чтении исследований, посвященных таким отсылкам, иногда возникает вопрос: а есть ли они там на самом деле? У вас в книге приведен прекрасный пример со стихотворением «Были очи острее точимой косы...», в котором видели и отсылку к библейскому образу Плеяд, и к «Спорадам» Вяч. Иванова, и к его стихотворению Subtile virus caelitum, где Плеяды упоминаются наряду с серпом, и, наконец, к «Трудам и дням» Гесиода. Не кажется ли вам, что такой метод может давать большую погрешность?
ПУ: Похоже что так. Тут есть важный момент филологической работы — сомнение в том, что усматриваемое тобой в тексте есть там на самом деле. Вроде бы восстанавливаются какие-то сложные смыслы, диалоги, виртуозные интертекстуальные игры, но подразумевал ли их автор? В такого рода построениях часто происходит сдвиг, потому что вместо формализации смысла текста исследователь невольно начинает реконструировать личность автора и его сознание. В этом смысле наш подход скорее пытается вернуться к читателю: мы обращаемся к читательскому впечатлению, которые возникает при чтении стихов. Стихотворение кажется неожиданным, оригинальным, но мы при этом почему-то его понимаем, нам нравится помнить его наизусть, повторять, цитировать.
МН: В предисловии вы пишете, что есть два основных способа чтения Мандельштама — семантический и интертекстуальный. Первый способ вам, кажется, ближе. Чем он лучше?
ВФ: Мне кажется, что сказанное выше про интертекстуальность во многом отвечает на этот вопрос. Семантический метод кажется нам более выигрышным, потому что у него больший фокус на сам текст. Это попытка не заменить смысл текста Мандельштама смыслом, например, стихотворения Лермонтова, а углубиться в текст и «вытащить» его собственную семантику. Опираться для этого можно на внутренние особенности стихотворения: синтаксис, лексику (в том числе фразеологию, о которой мы говорим) и т. д.
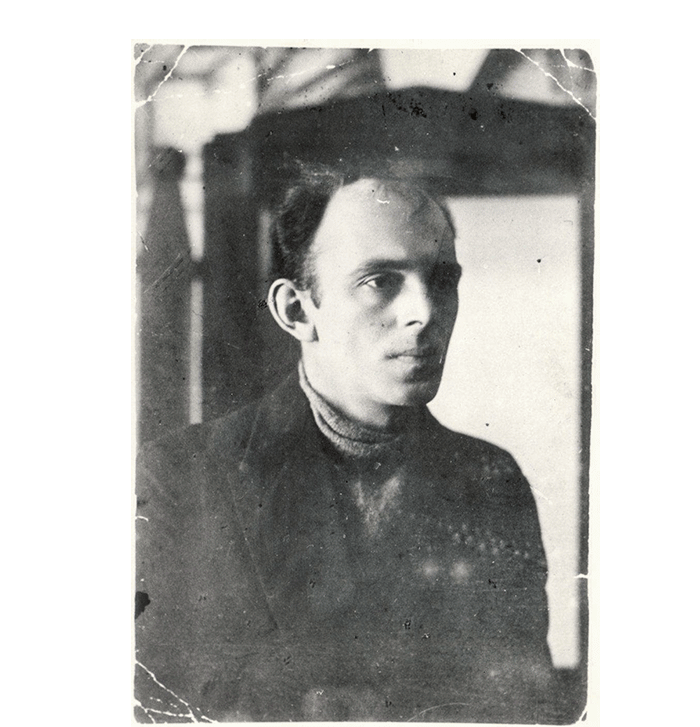 Осип Мандельштам в 1923 году
Осип Мандельштам в 1923 году
ПУ: Наш метод очень близок к семантическому, но не вполне с ним совпадает. В целом семантический подход к Мандельштаму концентрируется на его уникальной семантике. Такой анализ исходит из того, что Мандельштам создал свой отдельный язык: со своими законами словоупотребления, своими значениями слов, которые не совпадают со словарными. При этом в рамках семантического подхода не ставился акцент на связи языка Мандельштама с литературной нормой, с общелитературным языком (хотя, конечно, на эту тему есть работы), а нам было важно этот мостик с общеязыковой нормой укрепить. Поэтому наша работа о том, что Мандельштам в своей сложной семантике отталкивался от нормативных элементов языка и так создавал свои уникальные смыслы.
МН: Давайте поговорим о тех работах, которые вас вдохновляли, ведь о Мандельштаме написано очень много.
ВФ: Да, о Мандельштаме написано невероятное количество работ, и мы были не первыми, кто заметил то, что Мандельштам активно использует фразеологию. Но эта особенность практически нигде не рассматривалась как система, локальные замечания раскиданы тут и там в разных статьях. Идея о том, что Мандельштам таким особым образом системно перерабатывает язык, впервые появилась в работе Бориса Успенского «Анатомия метафоры у Мандельштама», на которую мы опираемся и которая нам близка по своей сути. В ней исследуются фонетические и, как они называются в статье, «изоритмические» замены. Успенский заметил, что в очень многих случаях за словом, которое написано и которое создает какой-то загадочный смысл, стоит слово, похожее по звуку и ритму и более нормативное в этом контексте. Например, «И расхаживает ливень с длинной плеткой ручьевой»: возникновение странного сочетания «ливень расхаживает» может быть мотивировано тем, что слово «ливень» похоже на слово «парень» количеством слогов, ударением и звучанием. Эта статья — про такие замены. Борис Андреевич рассматривает довольно много случаев, но ограничивается только одним типом замен. Мы интегрировали эти примеры в нашу систему и, кроме того, поняли, что можно пойти дальше. Тот же пример про «ливень» и «парня» раскладывается еще глубже: «расхаживает ливень» может быть не только результатом замены слова, но и происходить от стандартного выражения «идет дождь». Это очень хитро, потому что тут слово «идти» изначально в небуквальном смысле стоит рядом со словом «дождь». Мандельштам эту абсолютно устойчивую пару использует в стихотворении, но при этом делает совершенно незаметным то, что его слова возникают из такого устоявшегося словосочетания.
Другая очень важная работа — это книга Софии Поляковой «Осип Мандельштам: наблюдения, интерпретации, заметки и комментарии» (1992 г.). В частности, Полякова пишет про так называемый «пролептический эпитет» — прилагательное, перенесенное от одного слова, с которым у него изначально есть связь, к другому, возле которого оно непривычно выглядят, создавая тем самым новые образы и смыслы. Например, «Лошадиная бритва английская / Адмиральские щеки скребла»: здесь происходит перенос прилагательного «лошадиная» к слову «бритва» от слова «лицо», а «лошадиное лицо» — это уже что-то, что мы понимаем и представляем. При таком переносе возникает микс образов, усложненная семантика. А сам перенос мы можем заметить именно потому, что различаем те словосочетания, у которых очень сильна внутренняя связь (это и есть один из признаков фразеологизма).
Еще одна работа, на которую мы опирались, — это статья Юрия Фрейдина о просвечивающих словах: «„Просвечивающие слова” в стихотворениях О. Мандельштама» (2001 г.). Фрейдин проанализировал ошибки в самиздатских перепечатках Мандельштама и обнаружил, что копиисты в некоторых случаях заменяли сложные слова более простыми или устойчивыми. То есть у них «срабатывала» в голове эта особая связанность некоторых слов друг с другом, а у Мандельштама в таких словосочетаниях слова были замены на что-то более сложное, неожиданное для носителя языка. Копиисты неосознанно допускали ошибки в тексте, заменяя слова в словосочетаниях более привычными. Фрейдин эти ошибки проанализировал, увидел в заменах систему, и у него возникла догадка о том, что за необычными и неожиданными словосочетаниями в тексте Мандельштама просвечивают более простые слова.
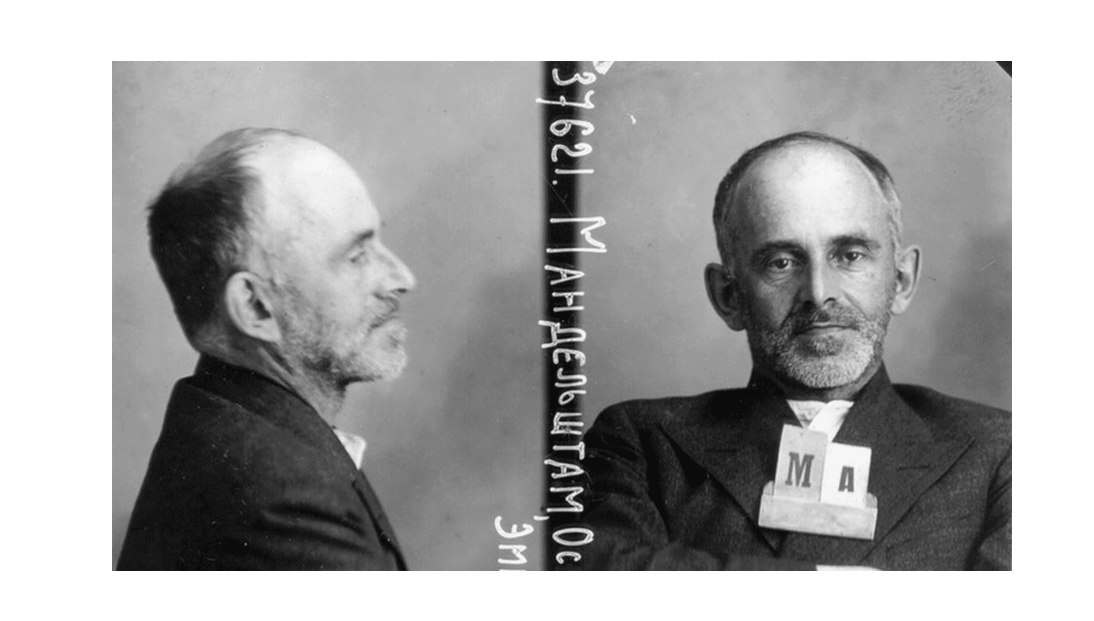 ПУ: В одном из поздних стихотворений Мандельштама «На доске малиновой, червонной» есть строки: «И, меня сравненьем не смущая, / Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую влюбленный». В списках мандельштамовских текстов очень часто словосочетание «в дорогу крепкую» заменяется на «дорогу дальнюю». В сознании читателей происходит упрощение высказывания, сложный образ заменяется на романсовое клише. Статья Юрия Львовича не сосредоточена на фразеологии, — скорее его интересовало то, что простые слова как первооснова проступают в тексте Мандельштама, а поверх них поэт, преодолевая язык, создает что-то оригинальное.
ПУ: В одном из поздних стихотворений Мандельштама «На доске малиновой, червонной» есть строки: «И, меня сравненьем не смущая, / Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую влюбленный». В списках мандельштамовских текстов очень часто словосочетание «в дорогу крепкую» заменяется на «дорогу дальнюю». В сознании читателей происходит упрощение высказывания, сложный образ заменяется на романсовое клише. Статья Юрия Львовича не сосредоточена на фразеологии, — скорее его интересовало то, что простые слова как первооснова проступают в тексте Мандельштама, а поверх них поэт, преодолевая язык, создает что-то оригинальное.
МН: Расскажите, пожалуйста, о вашей классификации и о том, что такое «принцип лексической замены».
ВФ: Коротко говоря, есть простые случаи употребления фразеологии, как, например, в строчке «Нам только в битвах выпадает жребий», где выражение «выпал жребий» сразу заметно и не вступает в глубинное взаимодействие с близлежащими словами и смыслами (впрочем, мы могли чего-то не заметить). В то же время есть случаи, где смешаны сразу несколько идиом, сложно взаимодействующих со смыслом окружающих слов или всего стихотворения. Мы выстроили выявленные примеры по возрастающей сложности. Между «простым» и «сложным» полюсами есть промежуточная цепочка случаев. Среди них выделяются такие классы, как семантизация идиом: это когда идиома интересным образом взаимодействует со смыслом текста. Например, «И хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла», где фразеологические словосочетания «хлынула кровь» и «пошла кровь» соотносятся с движением войска, поэтому возникает интересная смысловая двойственность. Еще есть случаи десемантизации идиомы, когда сами слова в языке используются преимущественно в переносном смысле, а в строчке он как будто бы исчезает. Например, «Я слушаю, как снежный ком растет». «Растет как снежный ком» говорят, когда что-то плохое быстро накапливается; это фразеологическое выражение, но в строке исчезает смысл накопления, здесь буквально увеличивается в размерах снежный ком. Есть случаи контаминации двух идиом. Судя по всему, «И клена зубчатая лапа» — это «смесь» еловой лапы и листа клена, потому что про еловые ветки говорят «лапы», а про клен говорят, что он зубчатый. Главное, что мы хотели показать в книге — это то, что таких примеров очень много и они складываются в систему, в разветвленную сеть трансформаций фразеологии. Для нас это служит одним из главных подтверждений того, что наша теория имеет смысл.
ПУ: Я расскажу о принципе лексической замены. Мы его уже затрагивали в связи со статьей Успенского «Анатомия метафоры», но хочу привести еще два случая для наглядности. Если посмотреть на строку из «Канцоны»: «Золотыми пальцами краснодеревца», то мы увидим, что «золотые пальцы» восходят к идиоме «золотые руки». Во втором примере — «Чтобы розовой крови связь» — обыгрывается идиома «кровная связь». В обоих случаях мы видим синонимическую замену. В первом случае она чистая — «золотые руки» меняются на «золотые пальцы», а во втором, когда «кровная связь» становится «связью крови», происходит усложненное изменение, потому что меняется часть речи, то есть прилагательное «кровная» становится существительным «кровь». Этот класс лексических замен достаточно большой, со своими подклассами. Замены такого типа оказываются эффективными для порождения новых смыслов, и, видимо, воспринимаются читателем с легкостью, не создавая эффекта затрудненной поэтической речи. Когда мы читаем «Золотыми пальцами краснодеревца», мы интуитивно понимаем, что здесь имеются в виду замечательные руки мастера. Тот факт, что в основе этого лежит идиома, облегчает нам восприятие, а с другой стороны, позволяет поэту создать оригинальную, неожиданную семантику строки.
 Осип Мандельштам в Тамбове. Декабрь, 1935 год
Осип Мандельштам в Тамбове. Декабрь, 1935 год
МН: Что для вас оказалось неожиданным благодаря такому взгляду на поэзию Мандельштама?
ПУ: Когда мы работали над трансформацией идиоматики у Мандельштама, мы предполагали, что этот прием распространяется на одну или две строки в стихотворении, то есть работает точечно. Неожиданным было то, что есть стихи, смысловое развитие которых определяется этим приемом, трансформация фразеологии идет каскадом от начала до конца текста. Именно так устроены хрестоматийные «Стихи о неизвестном солдате». Их космическая, уникальная семантика вырастает из работы с языком, причем именно нормативным. Это было неожиданностью.
ВФ: Да, это и для меня особенный пример. Но я хотела бы рассказать о еще одном неожиданном случае. В какой-то момент мы добрались до позднего стихотворения «Пароходик с парусами».
ПУ: «С петухами».
ВФ: Вот! Я случайно перепутала, потому что для меня привычнее «с парусами», чем «с петухами».
ПУ: При этом пароходы вообще-то не нуждаются в парусах.
ВФ: Да, но эти слова находятся в голове в одном семантическом поле, поэтому так получилось. Это как раз то, о чем мы говорили, — просвечивающие слова. Так вот, мы пытались разгадать «Пароходик с петухами», рассмотрели несколько трансформаций идиом, но поняли, что совершенно не можем как-то проинтерпретировать это стихотворение даже с нашим инструментарием. Как будто в нем случился какой-то слом работы с семантикой, к которой мы уже привыкли, пока читали Мандельштама. Так что стихотворение «Пароходик с петухами» для меня удивительное: в нем то ли сбой системы, то ли переход на новый этап, еще более сложный, выходящий за пределы того, что Мандельштам уже делал.
МН: Какие перспективы открывает ваш подход?
ВФ: С точки зрения использования идиоматики можно шире смотреть на модернизм. Что-то, конечно, уже было замечено. Например, Виктор Жирмунский еще в 1920-е годы писал, что метафоры Блока часто основываются на ходовых выражениях. Григорий Винокур в 1940-е годы написал работу «Маяковский — новатор языка», отдельная глава которой была посвящена переработке фразеологии. Много примеров, связанных с фразеологией, привел Максим Шапир в статье об авторской глухоте у Пастернака. В принципе, используя предложенную классификацию можно понять, какие типы трансформации используют разные поэты, какие ходы предпочитают. Здесь, как нам кажется, будет много интересных закономерностей.
ПУ: Вероятно, есть глубокая взаимосвязь между поэтической темнотой и переработкой идиоматики в тексте. Понятно, что темная семантика, сложные метафоры создаются за счет самых разных приемов, но часто они отталкиваются именно от готовых выражений. Если смотреть шире, это выводит нас на разговор об эволюции русской поэзии.
Мы видим, что в целом русская поэзия осталась в рамках силлаботоники и рифмы, и это, казалось бы, должно накладывать существенные ограничения на новаторство высказывания. В этих условиях случился модернистский взрыв, когда синтаксис и семантика стиха значительно усложнились и «разболтались». Фразеология — сжатые готовые смыслы, заведомо известные носителям языка, — стала одним из средств, которые компенсируют сложность и загадочность модернистского поэтического высказывания. Такой баланс позволяет нам «понимать», любить, помнить наизусть темную модернистскую поэзию. В частности, за счет этого она вошла в канон.
ВФ: Исходя из этого кажется, что для исследования русской поэзии очень перспективно подключение дисциплин, занимающихся восприятием текстов, и больший акцент на фигуре читателя. В заключительной части книги мы попробовали пойти в эту сторону, но понимаем, что не предложили готового ответа, скорее наметили модель в самом общем виде. Много могли бы дать междисциплинарные эксперименты, посвященные механизмам восприятия поэзии.
МН: В книге упоминается о том, что любая интертекстуальная интерпретация по сути навязывается тем, кто ее предложил. Но ведь этот упрек можно адресовать любому методу, в том числе и вашему — по сути читатель должен принять на веру предлагаемое вами прочтение.
ПУ: Мы и не говорим, что ничего не навязываем, — потому что понимаем нашу ангажированность в подходе, который предлагаем. Но, кажется, так на самом деле устроено любое литературоведческое исследование. Даже если это не проговаривается напрямую, все равно в его основе лежат какие-то вполне конкретные представления или идеологические предпосылки. Мы попробовали найти альтернативный действующий способ прочтения Мандельштама и предлагаем вглядеться в его стихи, вооружившись таким зрением.