Почему в теологии Карла Шмитта нет Бога?
Андрей Шишков — об отце‑основателе политической теологии
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
В современной политической теологии нет фигуры более противоречивой, чем ее родоначальник — немецкий юрист, политический философ и католик Карл Шмитт (1888—1985). Он прожил долгую и противоречивую жизнь: побывал на Первой мировой войне (правда, в тылу), сделал блестящую карьеру правоведа, навсегда испортил себе репутацию сотрудничеством с нацистами, был судим и оправдан на Нюрнбергском процессе, десятилетиями жил в опале и под конец жизни триумфально вернулся на академический олимп, став одним из самых востребованных политических философов своего времени.
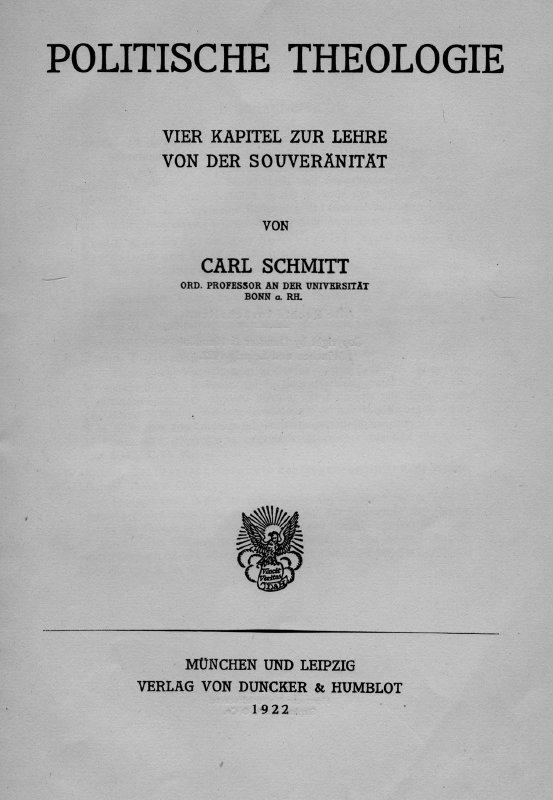 «Политическая теология: четыре главы к учению о суверенитете», 1922 год
«Политическая теология: четыре главы к учению о суверенитете», 1922 год
Публикация в 1922 году трактата «Политическая теология: четыре главы к учению о суверенитете» (далее — ПТ) положила начало этой богословской дисциплине в ее нынешнем виде. Но, несмотря на признание первородства, далеко не все политические теологи готовы признавать вклад Шмитта в эту богословскую дисциплину. Влиятельная британская теологиня Элизабет Филипс во введении к Political Theology: A Guide for the Perplexed (2012) пишет: «Одни видят в нем „крестного отца“ политической теологии, другие — одного из главных ее исказителей, подлежащих осуждению». Сама она выносит его за скобки и не включает в свой политико-теологический анализ.
Помимо репутации «придворного юриста Гитлера», такому отношению к Шмитту есть еще как минимум два объяснения. Во-первых, тот факт, что отцом-основателем политической теологии стал не профессиональный богослов, а верующий дилетант (в области теологии), выглядит для многих теологов скандальным — как если бы за бастардом признали законные права на наследство. Во-вторых, Шмитт — правый мыслитель, а мейнстрим политической теологии, который постепенно складывался с 1960-х годов, по преимуществу левый. Это и немецкие теологи Иоганн Баптист Метц (1928—2019) и Юрген Мольтман (р. 1926), ощутившие на себе влияние Франкфуртской школы, и Густаво Гутьеррес (р. 1928), вместе с другими теологами освобождения опиравшийся на марксистский инструментарий, и главный американский политический теолог Джон Ховард Йодер (1927—1997), явно симпатизировавший социализму. Шмитт для них даже не идеологический оппонент, а просто инородный элемент, который можно проигнорировать.
Если Метц и Мольтман в своих работах 1960–1970-х годов еще обсуждают Шмитта в контексте дискуссий о «новой политической теологии» в Германии (в противоположность его «старой»), то британский теолог Джон Милбанк в переведенном на русский фундаментальном труде «Теология и социальная история» (1990) уже практически не уделяет Шмитту внимания — несмотря на то, что кропотливо разбирает большинство значимых философов, социальных теоретиков и теологов XX века.
В России все наоборот: Шмитт случайным образом оказался самым популярным в стране политическим теологом. Именно с него начался интерес к этой дисциплине. В российском интеллектуальном пространстве он появился как политический философ и теоретик права, в багаже которого есть еще такая странная вещь, как теология. Поскольку в духовных семинариях на политическую теологию до сих пор наложено табу, а академическая теология развита слабо, светские социологи и философы заняли эту нишу Шмиттом и сами стали определять, что называть в России «политической теологией». Один из примеров — серия «Политическая теология» от издательства «Владимир Даль», в которой среди авторов опубликованных книг нет ни одного богослова (что, впрочем, не умаляет достоинств серии).
Социолог и переводчик Шмитта Олег Кильдюшов называет его теоретиком российских нулевых. А политолог Сергей Медведев*Признан властями РФ иноагентом. считает, что концепции Шмитта описывают современное российское государство. Я как теолог не берусь судить о политическом аспекте наследия Шмитта, но предположу, что именно эзотерический флер теологии привлек к нему внимание идеологов российской государственности того времени, таких как Владислав Сурков или Глеб Павловский.
В 2000–2010-е во всем мире резко возрос интерес к политической теологии. Элизабет Филипс связывает это с появлением политического исламизма и событиями 11 сентября. В России тоже возник запрос на политическую теологию в консервативном изводе. В речах президента Владимира Путина появлялись время от времени православные мыслители Иван Ильин и названный «консервативным» Николай Бердяев. Среди консервативных политических теологов к тому времени был переведен и хорошо откомментирован только Карл Шмитт. Кто знает, если бы был переведен Джон Милбанк, то вместо «суверенной демократии» кремлевские политтехнологи продвигали бы его схему народ — новая аристократия — монарх и обсуждали бы, кто именно должен войти в эту аристократию?
 Карл Шмитт в Мюнхене, 1917 год. Фото: Carl Schmitt Gesellschaft e.V.
Карл Шмитт в Мюнхене, 1917 год. Фото: Carl Schmitt Gesellschaft e.V.
Специфику своего политико-теологического метода Шмитт коротко формулирует так: «Все точные понятия современного учения о государстве представляют собой секуляризированные теологические понятия» (ПТ). Например, представления о суверене, которого Шмитт определяет как того, «кто принимает решение о чрезвычайном положении» (ПТ), восходят к теологическим представлениям о всемогущем Боге в его отношении к миру. В сферу учения о государстве теологические понятия переносятся не произвольно, а в соответствии с той систематической структурой, в которой они существуют в теологии. То есть нельзя взять представление о Боге из одной теологической системы, а о мире — из другой и соединить их. Метафизическая картина мира целиком проецируется на политический порядок. Так, земной суверен становится аналогом всевышнего законодателя, а чрезвычайное положение — чудом.
Шмитт не ограничивается констатацией теологических истоков понятия суверенитета. Он пытается показать, что в разные исторические эпохи политические понятия соотносились с характерной для них метафизической картиной мира. Метод обнаружения тождества между теологическими и политическими понятиями он называет социологией юридических понятий. Главное — определить, что стоит на месте Бога в пространстве политического. Например, в эпоху абсолютных монархий — король, а в пришедшей ей на смену после Французской революции — народ, который подобно Богу в деизме устанавливает миропорядок и удаляется от дел. Именно этот метод и определяет то направление в политической теологии, которое восходит к Шмитту и самым ярким представителем которого сегодня является Джорджо Агамбен. Но, откровенно говоря, ничего теологического в нем нет.
Теология у Шмитта лежит глубже. Он не беспристрастный «археолог», сличающий метафизическую картину мира с политической организацией в разные эпохи. Его политическая теология — это проект критики модерна и секуляризации, суть которого не только в обнаружении теологических корней современных политических понятий, но и в возвращении к «подлинному» пониманию политического, которое должно соотноситься с «правильной» метафизикой. А она, в свою очередь, должна опираться на христианские догматы. Для Шмитта ключевой становится католическая доктрина первородного греха: грехопадение прародителей Адама и Евы повредило человеческую природу и ввело в мир смерть, насилие и страсти. По мнению Шмитта, отрицание первородного греха разрушает весь социальный порядок, что можно видеть на примере «многочисленных сект, еретиков, романтиков и анархистов» («Понятие политического», 3-е изд., 1933, далее — ПП).
Доктрина грехопадения лежит в основе его понятия политического как различения друга и врага. Вражда неизбежна, потому что является следствием грехопадения. Человеку не под силу преодолеть ее своими силами. Тот факт, что мир лежит во зле (ср. 1 Ин. 5:19), становится основанием для появления политического. Шмитт пишет: «В добром мире среди добрых людей, конечно, царят только мир, безопасность и гармония всех со всеми; священники и теологи здесь столь же излишни, как и политики и государственные мужи» (ПП). Политика закончится только после Второго пришествия Христа, когда человеческая природа будет восстановлена, не раньше. В этом своем пессимизме в отношении человека он совпадает со своим американским современником, протестантским богословом и политологом Рейнхольдом Нибуром (1892—1971), который называл себя христианским реалистом.
Искажение «правильной» метафизики для Шмитта происходит вследствие секуляризации, которая, как покрывалом, скрывает истинное знание об устройстве политической структуры мира. Обнаружение теологических корней — это попытка приоткрыть завесу «реальности». В своих рассуждениях он стремится вернуться к досекулярной ситуации, когда нет никакой политической теологии, а политическое и религиозное не разделены. Политическая теология здесь просто реакция на деполитизацию и детеологизацию (и другие процессы с приставкой де- , как об этом говорит сам Шмитт в послесловии к «Политической теологии II», 1969). Основная проблема тут в том, что в своей «археологии» Шмитт копает неглубоко — всего лишь до контрреволюционеров Жозефа де Местра, Доносо Кортеса и Бональда, одних из первых теоретиков политического суверенитета в его модерном изводе. А с точки зрения того же Милбанка, они уже были «заражены» той теологической ересью, которая лежит в основании секуляризма, — богословским номинализмом. Надо было копать до Фомы Аквинского.
 Карл Шмитт, ноябрь 1926 года. Фото: Carl Schmitt Gesellschaft e.V.
Карл Шмитт, ноябрь 1926 года. Фото: Carl Schmitt Gesellschaft e.V.
Гадать, действительно ли Шмитт — теолог, сродни вопросу «жив кот или нет» в мысленном эксперименте Шрёдингера. Пока коробка закрыта, кот одновременно и жив, и мертв. Только вскрыв коробку, можно понять это с определенностью. Но дело в том, что «коробка» теологии Шмитта все еще не вскрыта. Теологи не хотят ее вскрывать, а не-теологи не знают, с каким инструментом к ней подступиться. Да и есть предчувствие, что, вскрыв коробку, мы увидим сначала не кота, а облако дыма, в котором тот будет прятаться. Шмитт любил специально нагнать эзотерического тумана, обернувшись мелвиллевским капитаном Бенито Серено.
Если Шмитт и был теологом, то принадлежал к редкому типу пророческой теологии. В ней нет рациональности академической теологии университетов и склонности к индоктринации, характерной для пастырской теологии семинарий. Пророческую теологию отличает развитая религиозная интуиция, опирающаяся на чувство божественного присутствия, и способность схватить суть устройства вещей, дающая возможность формировать картину мира у себя и у других. Только Шмитт, кажется, опирается на чувство божественного отсутствия. Его теологическая основа — это богооставленность: мир, из которого ушла благодать. Во всяком случае до второго пришествия Христа.
И здесь кроется, возможно, третья причина, по которой современные политические теологи не принимают Шмитта: они мыслят мир как пространство, где присутствует Бог. Божественная благодать помогает христианину действовать в этом мире, в том числе — в сфере политического. А у Шмитта нет Бога как актора, как нет и Церкви, понимаемой не как религиозная организация, а как место, где человек преображается, благодаря действию благодати.
Это — апокалиптическая теология, сродни той, что создавали старообрядцы-беспоповцы. Младший современник Шмитта немецкий философ еврейского происхождения Якоб Таубес назвал его «апокалиптиком контрреволюции». В молодости на Шмитта оказал большое влияние его старший друг поэт Теодор Дойблер (1876—1934), тоже визионер и апокалиптик. Возможно, также сказалось его отлучение от церкви из-за второго брака, в который он вступил в 1926 году. Шмитт не имел законной возможности причащаться в католической церкви вплоть до смерти второй жены в 1950 году. Хотя в 1947 году в лагере для интернированных он прислуживал за святой мессой.
 Карл Шмитт, 1950‑е годы. Фото: Carl Schmitt Gesellschaft e.V.
Карл Шмитт, 1950‑е годы. Фото: Carl Schmitt Gesellschaft e.V.
«Пророческая» интуиция подсказывает Шмитту, что разделение на друзей и врагов — это главный механизм взаимодействия между собой поврежденных грехом людей в безблагодатной секулярной пустыне. Как ни старайся, человеческая природа возьмет свое. Именно поэтому концепция политического Шмитта — это не призыв к действию, а констатация той метафизической картины мира, которой он придерживался. Ему часто ошибочно приписывают, что врага надо обязательно уничтожить. Но окончательное уничтожение врага и политическое объединение всего человечества под одной властью для апокалиптика тождественно воцарению Антихриста. Главенство же Христа в Царстве Небесном — не политическое, потому что восстановленный от греха человек обретает гармонию и добровольно подчиняется власти Бога.
Здесь нужно добавить, что важно понимать контекст того католичества, в котором рос Шмитт: Католическая церковь тех времен может дать фору современной РПЦ по степени «скрепности» насаждаемых ею традиционных ценностей, ригидности официального богословия и мракобесности отдельных популярных проповедников. Это церковь-крепость, осажденная полчищами врагов веры — протестантами, безбожниками, либералами и коммунистами. Из нее, не выдержав, сбежал Хайдеггер, а Шмитт лишь отстранился. Церковное аджорнаменто и реформы Второго Ватиканского собора (1962–1968) он принял холодно.
Для теолога невозможно обойти вопрос наследия Шмитта в контексте его морального облика. Один из главных популяризаторов его наследия в России, профессор Александр Филиппов, по этому поводу писал: «Взвешенное суждение о Шмитте невозможно и ненужно. Все, что вызывает моральное негодование, не может быть уравновешено научными заслугами. Но и ценность научных заслуг Шмитта не становится меньше от нашего морального негодования» («Карл Шмитт. Расцвет и катастрофа», 2000).
 Карл Шмитт и Эрнст Юнгер во время празднования 90‑летия первого, 11 июля 1978 года. Фото: Carl Schmitt Gesellschaft e.V.
Карл Шмитт и Эрнст Юнгер во время празднования 90‑летия первого, 11 июля 1978 года. Фото: Carl Schmitt Gesellschaft e.V.
Шмитт — не единственная противоречивая фигура в политической теологии. Например, похожий моральный спор ведется вокруг наследия Джона Ховарда Йодера, без обращения к которому (в отличие от Шмитта) не обходится ни одна книга или курс по политической теологии. Христианский пацифист и критик любого насилия, Йодер был обвинен в многочисленных случаях харассмента в отношении женщин, в том числе студенток Библейской семинарии, где он преподавал.
Его ученик, один из самых влиятельных современных американских теологов, Стэнли Хауэрвас, считает, что изучение такого автора требует определенной герменевтики подозрения. Его надо читать, понимая и оценивая не то, что есть в его работах, а то, чего там нет. В случае Йодера — более глубокой рефлексии в отношении сексуальной этики, признания ошибочности его «сексуальных экспериментов». Читая же ПТ и ПП Шмитта, вышедшие в 1920-е, нужно учитывать, что в 1930-е он в своих работах будет восхвалять Гитлера, якобы защищающего право, оправдывать нацизм и позволять себе антисемитские высказывания. Второе издание «Политической теологии», опубликованное в 1934 году, и вовсе выглядело в новом контексте как оправдание чрезвычайной власти фюрера. С ним тогда вступил в спор католический богослов Эрик Петерсон. Но и после Нюрнберга в работах Шмитта так и не появилось глубокой рефлексии по этим темам.
Описанное выше может показаться своего рода апологией Шмитта. Но это не так. Как теолог, я считаю его богословские взгляды ошибочными (по крайней мере те, что имплицитно содержатся в его трудах): в них нет места фигуре Христа и действию божественной благодати, что для верующего католика совсем странно. Нет важной для христианского богословия темы любви к ближнему и любви к врагам (есть, правда, про уважение к ним). Его антисемитизм и поддержка нацизма для меня морально неприемлемы.
Вместе с тем я считаю неправильным, что политические теологи просто игнорируют Шмитта или отвергают его наследие только потому, что в его биографии есть морально недопустимые моменты. Надо признать, что предложенный им метод обнаружения за современными политическими понятиями метафизических представлений давно перерос своего создателя и стал в каком-то смысле универсальным. Окончательно я в этом убедился, когда нашел работы по буддийской политической теологии, использующие его.
При этом Шмитт — опасный мыслитель: он быстро очаровывает, и это очарование часто не позволяет выстроить по отношению к нему критическую дистанцию. К тому же он любит окружить своего читателя эзотерическим ореолом тайны и вызвать чувство прикосновения к какому-то сакральному знанию, недоступному простым смертным. Под это очарование подпадают не только политологи и социологи, но и политтехнологи и идеологи. И здесь может быть полезен взгляд теолога, для которого тайна — это рабочее понятие, а к сакральному выработался «иммунитет». Шмитт все еще не прочитан теологически, и нас ждет увлекательное интеллектуальное путешествие, в конце которого может встретить как разоблаченный фокусник, так и непонятый пророк.