Почему никто не читает Вергилия
Алексей Любжин — о том, как устроена «Энеида»
Вергилий
Переходим к самому Вергилию. Начнем с макроструктуры. «Илиада» и «Одиссея» по 24 книги в каждой — это позднее разделение, у Вергилия 12 книг, и это разделение принадлежит ему. В среднем книги Вергилия длиннее гомеровских, в каждой — 700–800 стихов. В общем 24 книги «Илиады» — это 16 тысяч стихов, 24 книги «Одиссеи» — 14 тысяч стихов, каждая из этих поэм длиннее «Энеиды», но только за счет большего числа книг. Можно делить «Энеиду» на две или три части, но дихотомия более привлекательна. Сейчас я попытаюсь описать оба варианта. Если мы разбиваем «Энеиду» на три части, то первые четыре книги — это Карфаген и море, последние четыре — это война, а между ними — некий переход. Четвертой книгой завершается карфагенская тема, а в восьмой после подготовки начинается война. Почему предпочтительнее деление на две части? Шестая книга знаменитая — это схождение во Ад. Она опиралась на соответствующие места из «Одиссеи» и в свою очередь послужила прообразом для «Божественной комедии» Данте и всего религиозного эпоса. В конечном счете Мильтон тоже оттуда вырос. Таким образом, шестая книга очень четко делит поэму на две части: сначала мы имеем латинскую «Одиссею» — море, потом латинскую «Илиаду» — война. Это тоже своего рода ответ на гомеровский вызов: одним эпосом Вергилий должен был ответить и «Илиаде», и «Одиссее». Эти половинки очень разные; должен сказать, что школьное чтение крутится в основном вокруг первой половины — второй, четвертой и шестой книг. Во вторую половину обычно мало кто заглядывает. Один из лучших русских латинистов Олег Дмитриевич Никитинский, умерший несколько лет тому назад, говорил, что довольно часто перечитывает «Энеиду», но в основном именно вторую половину. Фигура Энея объединяет две половины, но остальные герои там очень разные. В первой половине Энею противопоставлена Дидона, во второй — Турн, в меньшей степени Мезенций, и дева-воительница Камилла.
Позволю себе прочесть кусочек из «Энеиды» в переводе семинариста Василия Петровича Петрова. Вергилий написал классический эпос, а переводчик ему достался барочный — так бывает. В России все было довольно просто: классицисты учились в кадетском корпусе, барочные поэты — в семинарии. Петров из духовного сословия, поэтому между его поэтическим языком, который уже ко времени создания перевода серьезно устарел, и языком Вергилия лежит пропасть.
Пою оружий звук и подвиги Героя,
Что перьвый, повнегда плененна пала Троя,
Судьбой гоним достиг Италии брегов;
От ополченных нань Юноною богов
По морю и земли был вержен безпрестани,
И много пострадал во кроволитной брани,
Желанный дондеже в Латии град воздвиг,
И в оный внес богов, по странствии, своих;
Отколь возникла мощь Латин необорима,
Албанские отцы, и горды стены Рима.
Повеждь, О Муза, мне, чем тако горьних Сил
Великий праотец чад Римских раздражил?
За что превыспренних Владычица всемочна
Востала мщением на мужа непорочна,
И столько бед его принудила понесть?
Толиколь Небеса преклонны Вы на месть!
Против Италии на бреге удаленном
От устий Тибровых пучиной отделенном
Богатый древле цвел и бранноносный град
Зовомый Карфаген, селенье Тирских чад...
Поэзия в этом переводе совсем не похожа на вергилиевскую, но, по крайней мере, это поэзия, а перевод, выполненный Ошеровым, мне кажется достаточно снотворным.
Вернемся к структуре. В первой половине «Энеиды» наиболее знамениты четные песни: вторая — гибель Трои, четвертая — любовь Дидоны и Энея, которая заканчивается самоубийством карфагенской царицы, и шестая — схождение в подземный мир, которое и продолжает Гомера, и противостоит ему. Подземный мир у Вергилия достаточно своеобразен: в нем обобщены многие элементы древних италийских верований. Помните, где это произошло? Авернское озеро, Кумы — это Южная Италия, окрестности Неаполя. Кстати, в 1930-х годах археологи раскопали там пещеру, и Луиджи Миралья, который мне ее показывал, утверждал, что Вергилий вполне мог считать именно эту пещеру обиталищем кумской Сивиллы. В первой книге буря забрасывает Энея в Карфаген, во второй он рассказывает о разрушении Трои. В третьей книге Эней продолжает рассказ о своих странствиях, а пятая повествует о спортивном состязании на Сицилии. Это тоже своего рода ответ на гомеровский вызов, так как и в предпоследней песни «Илиады» описываются спортивные состязания в память о погибшем Патрокле. В позднейших произведениях эта схема будет воспроизводиться достаточно рабски. Как мы уже сказали, первая книга «Энеиды» — буря, вторая — рассказ о бедствиях от третьего лица. Первая книга «Генриады» Вольтера посвящена буре, которая заносит Генриха Наваррского в Англию, а во второй книге Генрих рассказывает королеве Елизавете о Варфоломеевской ночи. И когда Ломоносов приступил к созданию эпоса о Петре, первую книгу, как вы уже догадались, он назвал «Буря»: шторм в Белом море выносит Петра на Соловецкие острова, а во второй книге царь рассказывает настоятелю Соловецкого монастыря о стрелецком бунте. Одна и та же модель используется многократно, ведь еще в конце XVIII века авторская оригинальность казалась странной и неуместной — напротив, требовалась жанровая узнаваемость. Поэтому никто не упрекал ни Вольтера, дописавшего «Генриаду», ни Ломоносова, не дописавшего «Петра», в том, что они рабски следуют вергилиевской схеме. Она была работоспособной вплоть до XIX века.
Если мы рассмотрим эту структуру на уровне одной «Энеиды», то и тут можно обнаружить довольно интересные переклички. В подземном мире Эней сначала встречает кормчего Палинура, затем Дидону, которая отворачивается от него, не желая с ним говорить, а потом брата Гектора Деифоба. Здесь намечается своего рода обратная перспектива: кормчий погиб совсем недавно, и ему нужно помочь нормально войти в царство мертвых. Дидона — это четвертая книга, Деифоб — вторая, и каждый раз разговор отбрасывает нас назад по временной шкале. Такое обратное движение характерно для всего вергилиевского творчества. Если даже не брать стихи из корпуса Appendix Vergiliana, то он начал с эллинистической поэзии — с «Буколик», потом перешел к дидактическому эпосу в духе Гесиода, затем была опять-таки буколическая поэзия и «Энеида», в которой автор обращается к седой древности — к римской истории и к истории литературы, то есть к Гомеру. Так что для Вергилия и в большом, и в малом характерно движение назад, в прошлое.
 Лепка характеров
Лепка характеров
Теперь нужно сказать относительно лепки характеров у Вергилия. Конечно, центральный характер — это Эней, которому дан эпитет «благочестивый», но сама по себе позиция Энея довольно щекотливая. Когда он уходит из Трои, у него чудесным образом появляется жена, которая сразу его покидает, чтобы будущий роман с карфагенской царицей был относительно безгрешным. Тут подчеркивается благочестие по отношению к отцу героя, который тоже умирает по ходу дела. У Энея есть сын Асканий, что немного не соответствует гомеровской канве: если мои впечатления от чтения Гомера верны, то у него Эней — очень молодой человек, и ни о его жене, ни о его детях ничего не говорится. Особенно большое испытание для репутации Энея — это история с Дидоной: она его приняла, спасла, а он ее бросает. Каким образом можно его оправдать? Удалось ли это Вергилию, ставил ли он перед собой такую задачу? Эней, конечно, повинуется божественной воле, и она сообщается ему «двумя пинками», если выразиться сниженным стилем. Сначала его в Трое будит Гектор — это одна из самых трагических страниц мировой литературы. Гектор ему является не таким, каким он был, когда сражался перед стенами Трои, а израненным и окровавленным после того, как его протащил по полю своей колесницей Ахилл. Это побуждает Энея собрать оставшихся в живых защитников города, сесть на корабли, бежать и искать новую Трою. Но из Карфагена он уходить не хочет, поэтому божественным силам приходится дать ему приказ повторно: Юпитер посылает Меркурия с тем, чтобы тот побудил Энея к деятельности и дал ему практические наставления в том, как ему следует бросить полюбившую его царицу и бежать из Карфагена, собрав своих людей. Тайно бежать не получается: разве можно обмануть любящую душу? Для читателя доводы Меркурия выглядят убедительно, но Дидоне мотивы Энея совершенно непонятны, и поэтому в подземном мире она не желает его видеть. Война — так война. Мы знаем, что этот эпос не был закончен, некоторые стихи не дописаны, и нет полной уверенности, что его концовка должна быть такой, как есть. Показателен поединок Энея с его главным противником во второй части, с вождем рутулов Турном: тот ранен, Эней уже собирается его пощадить, но видит на нем портупею Палланта, сына его союзника, царя Эвандра, и, влекомый гневом и мщением, убивает Турна. Как мы видим, характер Энея противоречив — с благочестием, гневом, отягченный невольным предательством, скрыть и затушевать которое в конечном итоге не удается.
Теперь можно перейти на следующий уровень — уровень языка. Вергилий — классицист, и в этом отношении он представитель своей эпохи. До него был неклассический классик Энний со своим очень ярким, пестрым и сочным до безвкусия языком, потом пришло барокко, но уже после Овидия, который тоже классицист. О языковом римском барокко речь пойдет на следующей лекции, когда мы доберемся до Лукана, у Овидия же довольно скромная афористичность, блестки встречаются редко. Позволю себе привести пример — скажем, то, что цитирует фон Альбрехт: «fuimus Troes», «Были мы троянцы...»; «Quid non mortalia pectora cogis / auri sacra fames?», «На что только ты не подстрекаешь сердца смертных, заклятая жажда золота». Добавлю, что политическая практика современных демократий, пока их вожди еще читали римскую литературу, сделала одной из любимых политических цитат такую строчку из второй половины «Энеиды»: «Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo», «Если я не смогу склонить вышних богов, я приведу в движение Ахерон». И это очень соответствует политическим практикам XX века: для того чтобы достичь своих целей, нужно взбаламутить общественное море, поднять со дна всякую чернь и бросить ее на приступ культурных оснований общества.
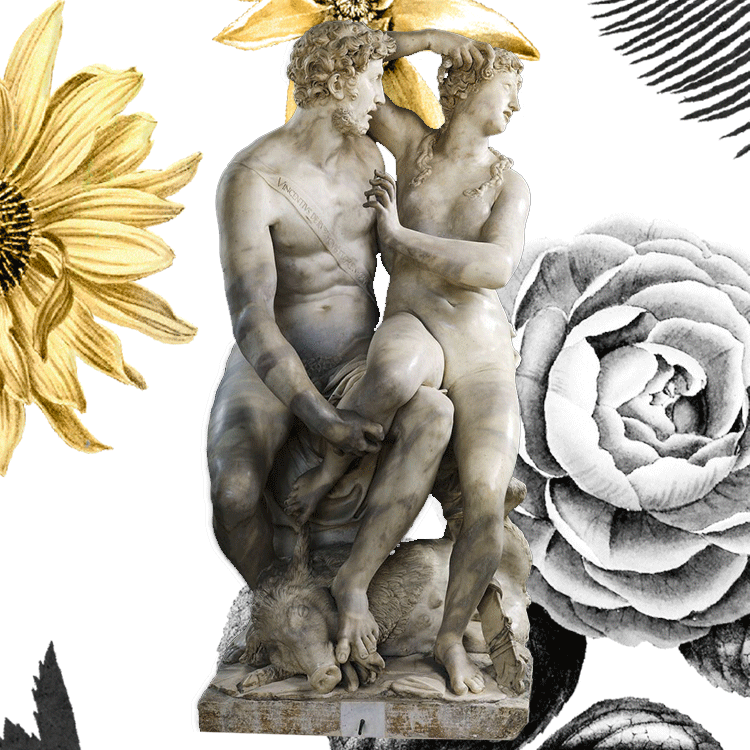 Язык «Энеиды»
Язык «Энеиды»
Чтобы дать вам некоторое представление о языке «Энеиды», я дословно переведу несколько кусочков прозой.
Nec tibi diva parens, generis nec Dardanus auctor,
perfide, sed duris genuit te cautibus horrens
Caucasus, Hyrcanaeque admorunt ubera tigres.
Это один из топосов, причем не только эпических, который берет начало у Гомера, но встречается и у Еврипида. Медея говорит Ясону что-то подобное. «Тебе не богиня родительница и Дардан, коварный, не автор твоего рода, но на голых скалах родил тебя ужасный Кавказ...» (вообще эпитет horrens означает «вздыбившиеся волосы»). «...и гирканские тигрицы протягивали тебе вымя», — это слова Дидоны. А сейчас речь пойдет о сне Дидоны.
Multaque praeterea vatum praedicta priorum
terribili monitu horrificant. agit ipse furentem
in somnis ferus Aeneas; semperque relinqui
sola sibi, semper longam incomitata videtur
ire viam et Tyrios deserta quaerere terra:
Eumenidum veluti demens videt agmina Pentheus,
et solem geminum et duplices se ostendere Thebas,
aut Agamemnonius scaenis agitatus Orestes
armatam facibus matrem et serpentibus atris
cum fugit, ultricesque sedent in limine Dirae.
Перевод: «Кроме того, многие слова прежних пророков ужасают ее страшным наставлением. Гонит сам ее неистовую во снах дикий Эней. Она всегда остается наедине с собой, всегда кажется, что она без спутников идет по длинной дороге и ищет тирийцев в пустынной земле. Как будто бы безумный Эней видит вереницы Эвминид. И два солнца и двойные Фивы показываются или сын Агамемнона Орест, гонимый по сцене, когда он избегает мать, вооруженную факелами и черными змеями. И на пороге сидят мстительницы эринии». Чем интересен этот сон? Эпический сон, как правило, функционален. До предела функциональности он доходит у Клавдиана, когда два римских императора — западный и восточный — видят один и тот же сон, побуждающий их к одним и тем же действиям. Сон в эпосе есть некоторый элемент, который должен послужить спусковым крючком для действий героя. Во сне ему открывается божественная воля, те задачи, которые мироздание на него возлагает. Вспомним хотя бы эпизод из «Илиады», в котором мертвый Патрокл является во сне Ахиллу и требует погребения. Здесь же мы видим некий противоположный полюс, потому что сон, который я привел выше, не заставляет Дидону ничего делать, ей и без того достаточно бегства Энея. Сон в данном случае не выполняет некую функцию, а создает мрачную атмосферу — кажется, для этого он и предназначен. В греческой трагедии сон отсылает к Еврипиду, к вакханкам: Пенфей наказан за свою дерзость по отношению к Вакху, и его разрывают на части пребывающие в упоении собственные ближайшие родичи. Конечно, когда Пенфей видит две луны или два солнца, это создает комический эффект, потому что понятно, в каком состоянии у людей двоится в глазах. Здесь ничего подобного нет. Это один из самых трагических эпизодов, в котором юмор (а Еврипид вообще мастер черного юмора) оборачивается своей черной стороной, и с литературной точки зрения он сделан достаточно умело.
Еще один небольшой кусочек — прощание Энея с Паллантом, его союзником, который был ему особенно дорог.
Hastam alii galeamque ferunt; nam cetera Turnus
victor habet. tum maesta phalanx Teucrique sequuntur
Tyrrhenique omnes et versis Arcades armis.
postquam omnis longe comitum praecesserat ordo,
substitit Aeneas gemituque haec addidit alto:
«nos alias hinc ad lacrimas eadem horrida belli
fata vocant: salve aeternum mihi, maxime Palla,
aeternumque vale». nec plura effatus ad altos
tendebat muros gressumque in castra ferebat.
«Несут другие копье и шлем, ведь прочим овладел победитель Турн. Уже печальная фаланга и тевкры следуют, и все тирренцы, и аркадцы с перевернутым оружием. После того, как впереди прошел весь длинный порядок спутников, встал Эней и такое добавил с глубоким вздохом: „Нас ужасные судьбы войны зовут к другим слезам, а ты здравствуй навсегда, величайший Паллант, и навсегда прощай”. Больше ничего не сказал и направил шаг к высоким стенам и в лагерь». Как видите, Вергилий нисколько не стремится к насыщенной афористичности, он, в общем-то, обходится без архаизмов и элементов нарочито высокого стиля. Его речь ориентирована на образованных римлян того времени, это не какой-то искусственный язык. Собственно, в произведениях барочных поэтов архаических элементов тоже почти нет, но способ выражения абсолютно другой.
Рассмотрим еще один эпизод, который представляет собой ответ на гомеровский вызов, — это девятая книга, и, что примечательно, она перекликается с десятой книгой «Илиады». Десятая книга, фабулу которой составляют разведка Одиссея и Диомеда и убийство Долона, считается наиболее сомнительным фрагментом «Илиады», точнее, несомненно негомеровским. Так, Долон рассказывает Одиссею и Диомеду об Аресе, потом они его убивают и завладевают его конями. В «Энеиде» разведка Ниса и Евриала аналогичная, но развязка становится трагической: троянские лазутчики, в отличие от греческих, гибнут. С одной стороны, это Гомер, а с другой — его противоположность. Там победа, а здесь гибель. Вот что еще можно отметить как один из пунктов расхождения: для Гомера вообще не характерны сцены ночного боя, и это доказательство того, что перед нами негомеровская часть. Самые патетические боевые страницы «Энеиды», а именно вторая книга, разрушение Трои, — это ночной бой. У Гомера во всех подобных сценах ярко светит солнце, исключением является только один фрагмент: когда Аякс сражался за тело Патрокла, Зевс разлил тьму вокруг места сражения. Аякс обращается к Зевсу с молитвой: «Если уж ты решил погубить нас, то губи при свете». Гомеровские герои предпочитают биться при свете дня, а у Вергилия этого нет, он скорее ночной поэт. Как мы увидели, оба замечательных боевых эпизода, разведка Ниса и Евриала и гибель Трои, происходят ночью. И это соответствует значительно более трагическому звучанию вергилиевского эпоса.
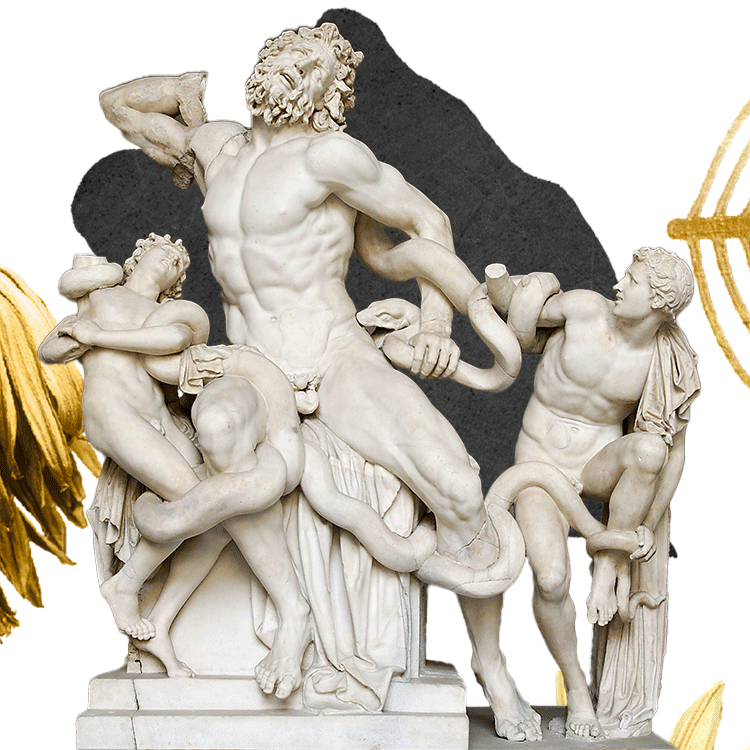 Репутация Вергилия
Репутация Вергилия
Теперь я хотел бы коснуться вопроса репутации Вергилия. Недавно мне попалась французская книга «Библиотека человека со вкусом», в которой собрано все, что нужно знать обо всех вышедших книгах. Такие короткие компендиумы для людей, желающих получить быструю эрудицию, существовали и в XVIII веке. Что согласно им надлежит знать о Вергилии человеку со вкусом? «Это слово пробуждает все идеи о прекрасной поэзии. „Энеида“ у людей со вкусом сходит за самую совершенную из эпических поэм. План и действие восхитительны и предполагают поэта, имевшего столько же силы суждения, сколь и воображения. Его труд везде имеет отпечаток высокого гения, справедливого ума, изящного вкуса. И если некоторые части этой поэмы не столь поражают, как другие, то потому, что невозможно, да и не подобало бы столь большому произведению, чтобы все было равно прекрасно. Предположим, что там есть недостатки, но, по крайней мере, эти недостатки восходят не к порочной основе или дурному строению фабулы, но единственно к тому, что у автора недостало времени, чтобы окончить свое произведение». Как вы видите, молодому человеку XVIII века положено было придерживаться о Вергилии вполне определенного суждения. Что касается замечания «у автора не недостало времени, чтобы окончить свое произведение», то здесь я вынужден вернуться к моменту, о котором забыл упомянуть в начале: Вергилий запретил публиковать то, что не опубликовал он сам, но Август нарушил его волю, а душеприказчики, среди которых был замечательный, по оценке современников, но, к сожалению, не дошедший до нас поэт Варий, отнеслись к незаконченному произведению с уважением и не стали его дописывать. Понятное дело — если ты хочешь сжечь свои рукописи, то нужно жечь самому, а не завещать это кому-то. Можно предположить, что Вергилий немного играл и отдал распоряжение, прекрасно зная, что его ослушаются после смерти. Овидий тоже сжег «Метаморфозы», зная, что у друзей есть копии и произведение не погибнет. Через такую игру можно дать волю своим раздраженным нервам и одновременно не нанести величайшего ущерба мировой литературе. Гоголь в этом отношении был серьезнее: от второго тома «Мертвых душ» остались одни черновики.
Еще я хотел бы обратиться к замечательной энциклопедии Jugement des Savants Адриана Байе. Это первая энциклопедия репутаций, и боюсь, что единственная, она была создана во второй половине XVII века. Байе признается, что невозможно обозреть все мнения о Вергилии, их высказано много сотен. Его собственная оценка такова: «Он сам прочная эпоха в поэзии и общий центр для всех поэтов, которые появились до и после него. Именно „Энеида” дала Вергилию первое место среди поэтов». Далее он цитирует Скалигера: «Нельзя отказать Гомеру в славе быть выше Вергилия по изобретению, ни в том, что это его образец». Но Скалигер говорит, что преимущество Вергилия перед Гомером в том, что он отполировал гомеровскую материю и довел ее до совершенства — не только добавляя, но и устраняя излишнее, заключая в разумных границах; Вергилий придал «Энеиде» военный характер «Илиады» и политический — «Одиссеи». Никаких, казалось бы, проблем, но у Пушкина говорится об этом несколько иначе: «Чахоточный отец / Немного тощей „Энеиды”». Впрочем, об этом высказался фон Альбрехт, автор замечательного двухтомника (в русском переводе это трехтомник) «История римской литературы от Андроника до Боэция», немецкий филолог с русскими корнями, потомок эмигрантов, во время революции покинувших Россию, так что у него прекрасный семейный русский язык и блестящее знание русской литературы. Он считает, что обмен ролями в романе «Евгений Онегин» восходит к «Энеиде»: сначала Татьяна пишет письмо Онегину, он ее отвергает, потом роли меняются — точно так же отвергнутая Дидона отворачивается от Энея в подземном мире.
Довольно часто, например, у Белинского, вы можете столкнуться с тем, что Вергилий уже полностью ниспровергается. Вообще я не сторонник теорий заговора, но складывается впечатление, что среди немцев и англичан в начале XIX века все же имел место заговор против франко-латинской литературы. Борьба эта могла найти свой исход только на французской почве, потому что кто же стал бы читать немцев, кроме самих немцев, на их варварском, совершенно непонятном языке? Этого не могли делать ни в России, ни во Франции, ни в Англии, а сами немцы по-французски писать не соглашались, а если и писали, то плохо. Однако нашлась госпожа де Сталь, которая еретические немецкие мысли перевела на французский язык и сделала их общечеловеческим — по тем временам — достоянием.
У Белинского вы можете найти такую оценку: Вергилий — это псевдоримский эпос, а Тит Ливий — настоящий. Мне очень интересно, каким образом критик, никогда не читавший ни того, ни другого, мог вынести подобное суждение. Вообще у Белинского была особая история: известно, что злая царская жандармерия выгнала его из университета, но надо сказать, что держали его на первом курсе два с половиной года, потому что он был не способен получить на экзамене по французскому больше единицы и больше двойки на экзамене по немецкому. Чтобы оправдать Белинского, советским литературоведам пришлось изобретать какой-то невероятный способ преподавания языков, с помощью которого их нельзя было выучить, но тогда возникает вопрос: как тогда другие студенты решали эту проблему? Учились ведь все, а пострадал один Белинский. Удовлетворительного решения этой загадки я не видел. Сейчас два с половиной года никто бы не стал держать студента на первом курсе — за несданную первую сессию он вылетел бы до конца следующей, и царское правительство на этом фоне выглядит чрезвычайно добродушно. С Белинским все сложно — он не высказывал свои мысли, а повторял чужие, разумеется. Не знаю, кому именно принадлежит эта мысль про Тита Ливия, но так думали тогда практически все. Для XIX века, особенно в Германии и России, Вергилий — это поэт, свергнутый с пьедестала и сброшенный с корабля современности. Французы так далеко пойти не могли: для них отказ от латинской литературы означал бы национальное культурное самоубийство, поэтому вы не встретите ничего подобного у французских издателей и критиков. Пожалуй, трудно встретить подобное и в Англии. Но XX век для Вергилия стал временем ренессанса — точнее, мог бы стать, если бы восстановление репутации влекло за собой восстановление читательского интереса.
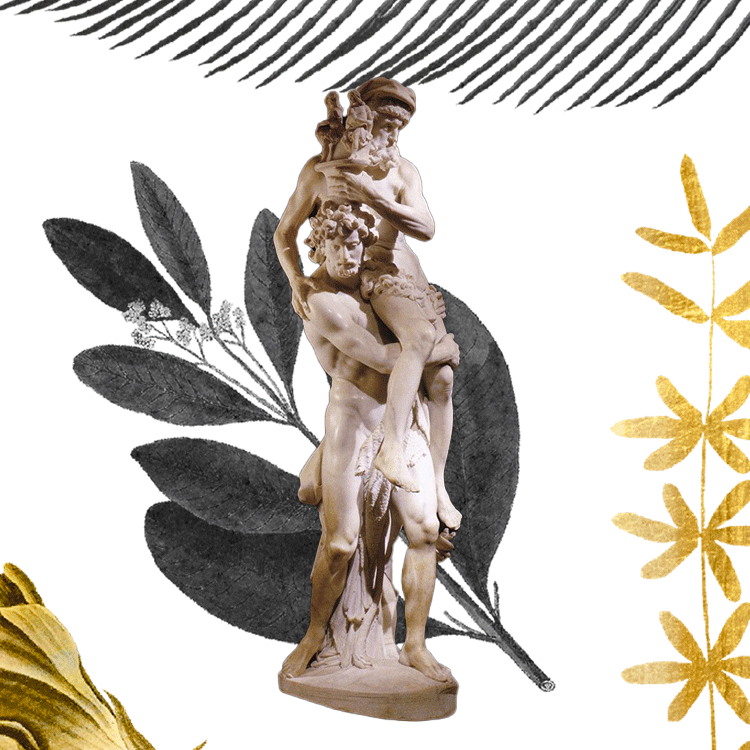 Заключение
Заключение
Стихотворный, нефольклорный эпос — один из самых мертвых и наименее читаемых литературных жанров. Думаю, большинство населения с «Энеидой» незнакомо никак, но, с другой стороны, если брать ошеровский перевод, то я бы сам заснул на середине второй страницы: никогда его полностью не читал, но мне всегда хватало около полутора страниц, чтобы проникнуться сонным настроением. То, что я вам читал из Петрова, — сейчас такое мало кто в состоянии одолеть, очень уж архаичный язык. Все время какие-то словечки непонятные попадаются, вроде бы наш язык, а вроде и не наш — досадно. Перевод Петрова может найти читателей только среди особо утонченных ценителей старого русского языка. Кстати, в этом смысле его утрированная дикость будет даже достоинством, потому что какой-нибудь компромиссный вариант вроде Хераскова для архаиста будет не так интересен. Наверное, актуальна задача создания нового перевода Вергилия, но не очень понятно, каким образом его можно подготовить. Я бы выступил за хороший прозаический перевод, как делают сейчас англичане и французы. Может, его прочтут. Это более разумный вариант, чем гекзаметрический перевод. Для Гомера я попытался дать решение александрийским стихом, но это очень трудоемкая операция, несколько лет работы, и повторить ее на другом материале не получится. Есть еще брюсовский перевод, вполне экспериментальная вещь. Она на грани фола с языковой точки зрения, Брюсов в ряде моментов был экстремистом — ничего плохого в этом нет, но сам Вергилий классицист и любые экстремистские решения очень не подходят для его стиля и дают нечто совсем противоположное. То есть у нас сейчас нет иного выхода (если мы хотим, чтобы «Энеиду» прочитали), нежели последовать за англичанами и французами и сделать нормальный прозаический перевод. Боюсь только, что этого не произойдет, поскольку это большой труд, кто за него возьмется? Так что читательские перспективы Вергилия в России крайне неутешительные.
Вопросы
— Вы сказали, что эпос мертв. Но в современном мире столько войн, есть и герои, неужели их как-то не пытаются воспеть, копируя великих древности?
— Честно говоря, мне такие попытки неизвестны. Если брать Великую Отечественную войну, то она породила «Василия Теркина», которого можно считать эпосом, но совсем не в античном духе. Если с чем его и сближать, то с ироикомическим эпосом, но никак не с героическим. Но знали бы вы, какую дрянь и в каком количестве писали в 1812-м и последующих годах! Об этом времени есть совершенно классическое произведение Жуковского, которое не стыдно противопоставить любому западному или античному — «Певец во стане русских воинов», — но оно очень одинокое. Написаны целые тома, посвященные 1812 году, но это такая риторическая трескотня! Если же мы считаем адекватным отражением величия 1812 года «Войну и мир», а считать так есть основания, то следует учитывать величину временной дистанции между самой войной и созданием романа.
— А «Живые и мертвые» Константина Симонова можно считать эпопеей?
— Абсолютно несопоставимая вещь просто по литературным достоинствам, ее невозможно сравнить даже с симоновскими стихами.
— Были ли какие-то попытки перевести Вергилия на русский прозой?
— Я бы сам с удовольствием занялся этим делом, если бы у него нашелся заказчик. Посмотрите на «Алибе», сколько стоят издания античные в серии «Литературные памятники» — это сущие копейки, их никто не хочет брать. В общем-то, можно понять, я тоже дома обхожусь без русского перевода Лукана, он мне не нужен — а просто так покупать ненужную книгу, даже задешево, не хочется: книги сжирают жизненное пространство. Очень бы хотелось, чтобы вся функциональная литература была поскорее загнана строго в электронные устройства и не занимала места, но пока у нас представления такие: если не бумага, то это не публикация. Люди очень неохотно отдают статьи в журналы, которые не выходят на бумаге.
Я с большим удовольствием работал над стихотворным переводом Гомера, поэтому если появится заказчик, возьмусь и за перевод Вергилия. Заниматься этим между делом невозможно, таковы наши жизненные условия, это не Альбинована Педона маленький фрагментик на досуге перевести. Кроме того, нужно делать двуязычное издание на латинском и русском языках с хорошим комментарием, а это вообще задача на несколько лет и для коллектива авторов.
Есть такой анекдот, правда, сам я его достоверность не проверял, поскольку сейчас вряд ли кто-нибудь в состоянии полностью прочитать поэму «Освобожденный Иерусалим» в переводе Семена Раича, но говорят, что у него есть там такая строчка: «Вскипел Бульон, течет во храм», что означает: «Герцог Бульонский взволновался и пошел в церковь». А классический перевод Алексея Мерзлякова еще хуже.