Почему любовь к хорошим историям мешает нам изучать диалоги Платона
Интервью со специалистом по античной философии Деброй Нейлз
— В одной из книг вы упоминаете о том, что ваш отец был плотником-философом. Можно ли сказать, что именно он пробудил в вас интерес к философии в целом и к Сократу в частности?
— Отец помог мне понять, что философия — это образ жизни, который я могу выбрать, и что в случае такого выбора «тебе будут платить, чтобы ты думала, и у тебя никогда не будет начальства». Он назвал моего котенка Сократом, когда мне было восемь, и вообще все наши питомцы носили имена греческих философов. У изголовья его кровати всегда лежала «Критика чистого разума» Канта. Ничто из этого, однако, не было так важно для моего выбора, как его любовь к спорам. Он настаивал на том, чтобы я давала обоснование всем своим взглядам и действиям, и ему нравилось, когда его самого вынуждают все обосновывать. Когда мне удавалось одолеть его в споре или в шахматной игре, он смеялся от восторга. До моего рождения он был боксером и всегда любил петушиные бои, так что было естественным предположить, что жизнь философа совместима с большинством других занятий. Платон, как вы знаете, и сам был борцом, и мне хочется думать, что его брат Главкон любил петушиные бои — эта забава пользовалась популярностью в Афинах, и Платон несколько раз упоминает о ней.
— Почему вы решили изучать античную философию? Можно ли сказать, что ваши исследования вдохновлены кем-то конкретным?
— Путь к античной философии и Платону был для меня долгим. Первой философской книгой, которую я прочитала, было «Рассуждение о методе» Рене Декарта; книга, которая, как я думала, была ответом на вопрос о том, как мне следует жить и зачем. Метапсихологические исследования Зигмунда Фрейда повлияли на меня в подростковом возрасте. В старшей школе я читала Бертрана Рассела и стремилась быть такой же честной, ясной и точной, как он. Меня восхищала его борьба против войны, за права женщин, против религии. Так что я была уже достаточно стара, в возрасте восемнадцати, когда столкнулась с «разделенной линией» Платона [речь идет о платоновской эпистемологии, предполагающей деление всего на видимый мир и идеи. — Прим. ред.] — и была просто потрясена. Мне не нравилась идея начинать учить греческий так поздно, но я понимала, что я на крючке, навсегда, так что в том же году приступила к изучению древнегреческого.
В те годы наибольшее влияние на меня оказали Фридрих Ницше и Леон Робэн. Лишь десятилетия спустя я испытала восхищение перед работами Хольгера Теслеффа и Майлса Бернита.
— Как бы вы охарактеризовали текущую ситуацию в области Classical Studies в США? Насколько она отличается от европейской?
— Новые программы по классике — редкость, потому что сильно снизилось финансирование университетов и потому что университетская администрация — люди, как правило, очень плохо образованные. Многие из них выбирают легкий путь из колледжа к степени в области образовательного администрирования, которая лишена каких-либо корней. Их идеал великого университета — не храм знаний, а корпорация для извлечения выгоды, в которой студенты — это потребители, а сами они — начальство. Можно легко представить, как они взглянули бы на платоновского Сократа с его подозрительным отношением ко всем, кто стремится к власти, богатству и славе. Он показался бы им пережитком прошлого, недостойным интереса наших современников. В моем исследовательском университете проректор закрыл программы по классике, когда я там училась, и они возобновились лишь частично после того, как небольшая группа факультетских сотрудников из разных частей университета затратила на это огромные усилия и время. Если бы не запротестовали физики, биологи и врачи, преподавание древнегреческого спасти не удалось бы. Конечно, было много голосов от историков, философов, искусствоведов, политологов и лингвистов, но эти голоса не очень весомы в университете-корпорации.
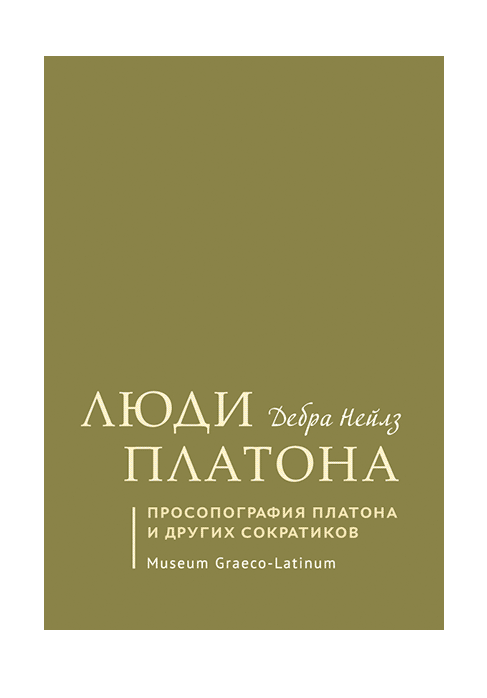 Я не настолько хорошо знакома с преподаванием классики в Европе, чтобы мое мнение на этот счет чего-то стоило, но хотелось бы узнать, как там с этим обстоят дела. Если верно, что в некоторых европейских университетах Платона не изучают по переводам, было бы жаль — это сужает аудиторию Платона и лишает людей величайших интеллектуальных наслаждений. С другой стороны, прискорбно, что в США люди безо всякого знания греческого могут считать себя исследователями Платона.
Я не настолько хорошо знакома с преподаванием классики в Европе, чтобы мое мнение на этот счет чего-то стоило, но хотелось бы узнать, как там с этим обстоят дела. Если верно, что в некоторых европейских университетах Платона не изучают по переводам, было бы жаль — это сужает аудиторию Платона и лишает людей величайших интеллектуальных наслаждений. С другой стороны, прискорбно, что в США люди безо всякого знания греческого могут считать себя исследователями Платона.
— Почему важно знать, кем были собеседники Сократа у Платона? Разве мы не могли бы лучше оценить сильный или слабый аргумент в том или ином диалоге, не зная, кто его выдвигает и избегая таким образом своего рода «эффекта ореола»?
— Я поменяю порядок двух ваших очень проницательных вопросов, потому что они касаются самой сути того, почему я вообще написала «Людей Платона». Но я не могу не улыбнуться, так как вы перефразировали Сократа. Уже перед смертью он говорит Симмию и Кебету: «Думайте не о Сократе, а об истине; если вы считаете, что я прав — соглашайтесь; если нет — выдвигайте любой возможный аргумент». Что-то в этом роде он им советует. Сам Платон понимал опасности «ореола» и всем своим талантом этому противился. Если бы он был как современные философы, которые пишут трактаты, он бы привлекал последователей, которые верят в х только потому, что почтенный Платон сказал х. Сочинения Платона действуют прямо противоположным образом. Он неявно требует, чтобы мы сами совершали интеллектуальную работу, пробовали себя в серьезных, трудных вопросах, пока не сможем подкрепить свою позицию свидетельствами и аргументами. Начиная с IV века до Р. Х. ведутся споры о том, что имел в виду Платон — это столь же показательно, как и полезно. Мы обсуждаем его диалоги, но при этом не имеем возможности ссылаться на авторитет Платона. Доводы выстаивают или рушатся сами по себе. Отчасти «Люди Платона» были написаны для того, чтобы оспорить мнение наших современников, считающих, что они могут по крупицам выбрать из диалогов то, что думал сам Платон, а затем представить это всем остальным как догму.
А как насчет «ореола» Сократа? Платон изображает Сократа, внимание которого направлено на конкретного собеседника, а вопросы диктуются ходом разговора, так что в разных диалогах Сократ высказывает разные точки зрения. Он защищает противоположные мнения в «Горгии» и «Протагоре», в «Апологии» и «Критоне», в «Федоне» и «Пармениде», в «Государстве» и «Меноне». Его невозможно поймать на слове. Сократ философствует устно, его философия носит личный характер, ориентирована на убеждения и ответы собеседника, которые определяют ход разговора. Он презирал слово «учитель» (διδάσκαλος), но сам Сократ привел многих к более осмысленной жизни именно с помощью вопросов. Платон философствует письменно, поэтому он обращается к более широкой публике и способен ставить вопросы более сложные, чем те, которые Сократ обсуждал в рамках одного разговора. Однако Платон остается продолжателем метода Сократа, изображая реальных людей, некоторые из которых могли быть известны членам Академии. На этом метауровне читатели Платона в древности имели возможность понять человеческую динамику, задействованную в философском дискурсе. Философия не математика. «Люди Платона» призваны сообщить, насколько это возможно, то, что Платон и его окружение знали лично из первых рук или из недавней истории.
 Дебра Нейлз
Дебра Нейлз
Однако, как вы намекаете, есть и другой аспект «ореола»: можно коварно вложить слабые доводы в уста неприятных персонажей. Но на самом деле Платон вкладывает слабые доводы в уста всех своих персонажей, включая Сократа. Сократ на ходу меняет точку зрения и делает противоречивые заявления, реагируя на реплики собеседников. Видимо, поэтому судьи приняли Сократа за одного из софистов, которые хотели только сбить с толку своих собеседников. Впрочем, иногда то, что мы знаем о собеседнике, может дать нам ключ к пониманию того, что все не так, как кажется на первый взгляд, что не надо всегда доверяться первому впечатлению. Я имею в виду Менона, негодяя, какого не бывало. Когда он говорит, что хочет обсудить добродетель с Сократом, мы можем не сомневаться, что у него в рукаве что-то припрятано. Так что мы не удивляемся, когда он позже пытается подловить Сократа или когда оказывается, что он дружен с одним из обвинителей Сократа, Анитом.
— Вы полагаете, что ситуации, изображенные в диалогах Платона достоверны (или хотя бы правдоподобны)? Можем ли мы использовать их для реконструкции исторических событий? И всегда ли можно провести четкую границу между литературным персонажем и историческим лицом?
— «Правдоподобный» — подходящее для платоновских диалогов слово. Сегодня мы уверенно проводим различие между литературой и философией, но в то время его не существовало. Мы не знаем, намеренно ли Платон стремился к исторической точности или просто полагался на память. Но чем больше мы узнаем о людях сократовского круга, тем больше у нас причин относиться с вниманием к платоновским изображениям людей в их социальном, политическом, семейном и дружеском окружении. В отличие от Ксенофонта с его «Воспоминаниями», Платон изображает людей, которые, весьма вероятно, были друг с другом связаны, и не грешит против хронологии. Например, мы видим двух друзей в «Протагоре» как раз накануне Пелопоннесской войны, а несколько десятилетий спустя они снова выведены как находящиеся в тех же отношениях. Иногда сообщения Платона уточняют текст Фукидида — или наоборот. Порой герои Платона упоминаются в судебных речах, в сочинениях других авторов, или же мы находим их имена на мраморе в списках стратегов или преступников, должностных лиц или погибших, театральных хорегов или триерархов. Все это позволяет лучше понять, что такое Афины и почему Сократ и Платон практиковали те философские методы, о которых мы знаем, — один в устной, а другой в письменной форме.
— По вашим словам, до «Людей Платона» единственная платоновская просопография, т. е. справочник персоналий платоновских диалогов, была опубликована в 1823 году. Довольно давно! Значит ли это, что не существует традиции изучения героев Платона в историческом контексте, и если да, то почему так получилось?
 — Как раз наоборот! Свято место пусто не бывает: например, одно замечание в сноске к диалогу могло вызывать пространные спекуляции исследователей, которые готовы были предполагать все, что душе угодно, — лишь бы эти фантазии хорошо согласовывались с их философскими построениями. Так что есть целая традиция рассуждать о героях Платона, но никто не мог их по-настоящему изучать в историческом контексте, пока не появились компьютерные средства работы с информацией. Это все изменило. Впервые в истории факты ограничили пространство наших догадок.
— Как раз наоборот! Свято место пусто не бывает: например, одно замечание в сноске к диалогу могло вызывать пространные спекуляции исследователей, которые готовы были предполагать все, что душе угодно, — лишь бы эти фантазии хорошо согласовывались с их философскими построениями. Так что есть целая традиция рассуждать о героях Платона, но никто не мог их по-настоящему изучать в историческом контексте, пока не появились компьютерные средства работы с информацией. Это все изменило. Впервые в истории факты ограничили пространство наших догадок.
— Во введении к «Людям Платона» вы пишете о «жестоком уроке, ключевом для всякого, кто занимается Сократом: там, где речь заходит о героях, мир будет продолжать предпочитать миф, а ученые — часть мира». Не могли бы вы развернуть эту мысль?
— Очень проницательный вопрос! Я только что описывала ситуацию до появления компьютерных массивов данных и сказала, что фантазия ученых позволяла им выстраивать такие образы героев, которые подходили для их собственных целей и установок. В первую очередь речь о Сократе (если не говорить о самом Платоне). Сократ — герой, так что вскоре после его смерти вокруг него самого и его семьи стали складываться мифы: поучительные истории и просто сказки. Многие из этих мифов повторяются начиная с эпохи эллинизма, и людям они полюбились. Что касается просопографий, то здесь любая история может быть урезана; мы не можем быть уверены в том, что случилось потом; наши факты усыхают, оставляя пустоты, — небольшие, но все же пустоты. Людям свойственно говорить: «Конечно, давайте расставим все факты по местам, но вот тут есть одна небольшая история, которая так хороша...» И на этой истории возводится целое здание. Я раньше думала, что ученые — исключение, что наше образование приучило нас прежде всего стремиться к истине, но «Люди Платона» преподали мне урок. И ученые любят хорошие истории, и порой любят их настолько сильно, что готовы пожертвовать истиной. Я очень сожалею об этом.
Чтобы не заканчивать на грустной ноте, хочу сказать спасибо за то, что уделили время для этого интервью, и за очень хорошие вопросы!
За помощь с организацией, подготовкой и переводом интервью «Горький» благодарит Ольгу Алиеву, доцента НИУ ВШЭ.