Перья, кровь, толпа и деньги
Об одной статье Клиффорда Гирца
Заголовок этого материала дублирует название одного из ключевых разделов в самой, наверное, известной и цитируемой статье американского антрополога Клиффорда Гирца «Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев». Тема статьи, казалось бы, очень локальная — описание популярного развлечения в деревнях на острове Бали в 1950-х. Людям, далеким от этнографии и социологии, это может быть любопытно, но не более того. Однако статья превратилась в целый методологический манифест — демонстрирующий, почему балийские петушиные бои способны рассказать нам о нас самих больше, чем мы подозреваем.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Клиффорд Гирц. Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев / Пер. с англ. Е. М. Лазаревой под ред. А. В. Матешук // Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с англ. под ред. А. Л. Елфимова и А. В. Матешук. М.: РОССПЭН, 2004. С. 473–522.
Клиффорд Гирц. Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев / Пер. с англ. Е. Лазаревой под ред. Д. Сивкова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.
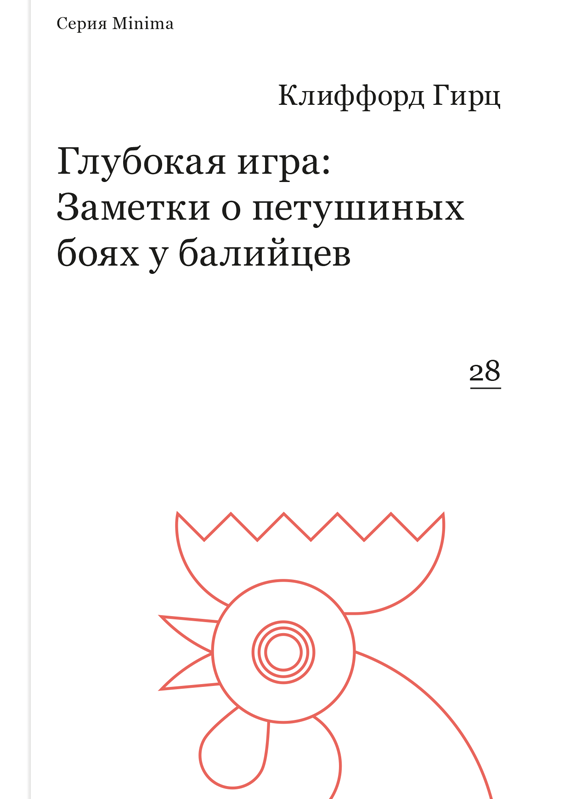
Клиффорд Гирц был призраком. Он и его жена Хилдред (тоже призрак) бродили по балийской деревне, не замечаемые никем, отчужденные от собственных социальных тел. С ними никто не говорил, люди смотрели сквозь них и лишь аккуратно обходили их стороной — единственное свидетельство того, что их все-таки видят. Разумеется, их видела вся деревня: как и всякие уважающие себя привидения, супруги Гирц старались показываться на глаза то тут, то там, появлялись в любой момент в любом месте, наблюдали даже то, что балийцы вообще-то не любят показывать живым чужакам. А дальше произошло чудо.
Симптоматично, что статью о петушиных боях Гирц начинает не с самих боев — точнее, не только и не столько с них. Первым делом он смещает акцент: главное событие вводного раздела — то, как они с женой вместе с балийцами убегали от полицейских, которые устроили облаву на любителей запрещенной игры. Эта подглавка так и называется: «Облава», — так что внимание читателей переключается с первого же слова. Мы получаем не этнографический очерк — но и не просто бытовую дневниковую зарисовку (с элементами комичного драматизма), — а погружение. Нас окунают в гущу событий и заставляют вжиться в стремительно развивающийся сюжет, проживая его совместно с остальными персонажами. Гирц даже не скрывает, что он здесь — не просто ученый, а прежде всего нарратор: статья сделана по всем законам хорошего литературного сторителлинга. И в результате за нырянием в мир текста может ускользнуть еще одно, куда более тонкое и неочевидное на первый взгляд, погружение — в исследовательский метод. Итак, что же все-таки произошло?
Поначалу жители этой конкретной деревни Тиинган отнеслись к чужакам-антропологам настороженно, недоверчиво, но терпеливо. Это видно уже хотя бы по тому, что Хилдред Гирц неоднократно присутствовала вместе с мужем на петушиных боях — строго мужском мероприятии, куда балийских женщин не пускали. Однажды, спустя десять дней такого включенного наблюдения и эфемерного существования, произошла случайность: во время очередной игры в деревню нагрянула полиция — государство боролось с традиционалистскими ритуалами, портившими имидж деколонизирующейся страны. Супруги Гирц сбежали от полицейских вместе со всеми, хотя имели полное формальное право остаться на месте — им, в отличие от местных, ничего не угрожало. Однако они вольно или невольно (скорее интуитивно, если верить нарратору) приняли участие в этом празднике общей беды, спаслись во дворе первого попавшегося балийца, и на следующий день произошло переключение: вся деревня радостно признала их своими.
Хилдред и Клиффорд Гирц оказались в центре внимания, обсуждения и интереса, люди начали демонстрировать доверие к ним, их принял у себя местный брахман, чей дом до того был закрыт для антропологов. И вот здесь стоит еще раз подчеркнуть, что все двери им распахнула случайность — не строго научный метод, не систематичное следование протоколам исследования, не понимание основ общечеловеческой психологии или глубин балийской культуры, даже не престижный статус заокеанских ученых (не забываем про колониализм антропологов первой половины XX века), а везение:
Вся деревня была для нас открыта, возможно даже в большей степени, чем это могло быть, если бы события развивались как-то иначе (я бы, наверное, никогда не смог попасть к этому священнику, а человек, волею случая приютивший нас «в тот самый день», стал моим лучшим информатором), и, безусловно, это произошло быстрее, чем ожидалось. Быть пойманным или почти пойманным в ходе полицейской акции — не самый распространенный рецепт достижения контакта, этой сокровенной необходимости в антропологической полевой работе, но в моем случае это удалось блестяще. Это позволило мгновенно и необычайно глубоко проникнуть в общество, которое обычно отчаянно сопротивляется чужакам.
Ну хорошо, а как же происходило установление контакта в других деревнях, где не происходило столь удачных для Гирца полицейских рейдов? В «Глубокой игре» он этого не сообщает (хотя в его книге воспоминаний «Постфактум» есть немало ярких и драматичных сведений на этот счет), но, похоже, каждый раз это был уникальный и неповторимый опыт — случай, удача, совпадение. И конечно, их немедленная, прямо на ходу, интерпретация, позволяющая Гирцу оперативно откликаться на любое внезапное изменение обстановки — быстро вчитаться в нюансы того, что происходит, как-то понять это и отреагировать. Такая интерпретация может оказаться более или менее успешной, но она всегда неповторимая, индивидуальная.
И именно эта индивидуальность — самое привлекательное для Гирца в работе антрополога, да и любого представителя наук о человеке. Слово «интерпретация» он выносит в название своего самого знаменитого сборника — «Интерпретация культур», — подчеркивая тем самым свою приверженность семиотике: он считывает смыслы ситуации, старается реконструировать ее семантику максимально подробно, сложить вместе все позиции и точки зрения, выявить скрытые смыслы, неочевидные логики поступков персонажей и непонятные для непосвященного закономерности.
Такое считывание он вслед за британским аналитическим философом Гилбертом Райлом называет «насыщенным описанием» (thick description). Правда, у Райла «насыщенное» — точнее, просто «толстое» — описание трактуется лаконичнее: есть тонкое (thin) описание человеческого поведения в том виде, в каком мы его наблюдаем, и толстое, когда для лучшего понимания добавляется контекст. Однако контекст, по Гирцу, — это очень сложный и многоуровневый комплекс: не одна рамка, а множество. Чтобы адекватно интерпретировать ситуацию, нужно охватить абсолютно все уровни, а это невозможно по определению: каждая новая интерпретация создает свой, новый и уникальный, уровень понимания. Причем интерпретируют все: непосредственные участники ситуации, ее свидетели и сторонние наблюдатели, бывшие участники, вспоминающие прошлые события, позднейшие рассказчики, слушатели этих рассказчиков и изучающие их всех антропологи (и тот, кто рассказывает об этих антропологах, и вы, читающие меня сейчас...). Дом, который построил Гирц, никогда не будет достроен до конца. Потому что интерпретация для него — это процесс, который никогда не остановится, пока будет существовать интерпретируемая культура. Правда, даже если идеал недостижим, это еще не значит, что к нему не надо стремиться.
Такой подход сильно напоминает филологическую феноменологию. Одновременно с Гирцем в 1960-е годы по другую сторону Атлантики, в немецком городе Констанц два философа и исследователя литературы — Вольфганг Изер и Ханс Роберт Яусс — создавали очень схожий подход, который они назвали рецептивной эстетикой. В основу этого подхода тоже легла бесконечная интерпретация. Более того, Изер развел понятия «произведение» и «текст»: совсем упрощенно говоря, текст — это набор слов и предложений, а произведение — это сумма текста и всех его возможных интерпретаций (конкретизаций). Автор многократно интерпретирует свой собственный текст, пока пишет и когда дописал; каждый читатель создает всё новые и новые интерпретации каждый раз, когда перечитывает; целые общества заново открывают древние тексты и создают новые, чтобы продолжать переосмысление мира вокруг и себя в этом мире. К аналогичному выводу приходит и Гирц — но для него текстом являются не только буквы на бумаге, но и любое явление, запускающее наш процесс осмысления. Петушиный бой на Бали — это тоже текст.
Из чего он складывается? Гирц постепенно раскладывает перед читателем целый набор исследовательских гипотез. С точки зрения фрейдизма, жестокий и кровавый бой петухов на импровизированном ринге (напомню, чисто мужская азартная игра) — это сублимация нереализованных желаний, выражение запретного животного начала, а сами петухи — своего рода бегающие фаллосы. (Психоаналитическую интерпретацию Гирц на протяжении работы воспроизводит неоднократно, всегда с явной иронией, но при этом не отрицает ее полностью.) С точки зрения марксизма, в петушином бое главное — не сама драка двух птиц, а сложная система денежных ставок и пари и стоящая за ними иерархия социальных статусов; другими словами, эта игра является отражением общественного неравенства и экономического обмена. С точки зрения структурализма Клода Леви-Стросса, символические формы наподобие этой игры ценны не сами по себе, а как код, внешнее проявление неких глубинных структур. Уходя в истолкование этой невыраженной подоплеки, о которой сами участники боя должны даже не подозревать (потому что она находится, по сути, где-то на уровне коллективного бессознательного), структуралист теряет контексты реально происходящих событий и вместо свода многочисленных и разнообразных интерпретаций предлагает одну-единственную с претензией на окончательную истину. Функционалист увидит здесь статусную дискриминацию, диффузионист обнаружит в дискриминации ритуал, ницшеанец найдет в ритуале волю к власти, дюркгеймианец заподозрит во власти, триумфе и поражении обучение социальным нормам и правилам жизни в балийской деревне, представитель школы Франца Боаса отыщет в этих правилах и нормах черты особого местного менталитета («балийского образа жизни»)... Сам Гирц поверх всех этих интерпретаций добавляет еще одну от себя — сравнивая процесс участия в петушиных боях с процессом чтения «Преступления и наказания» или просмотром пьесы Шекспира в театре, он предлагает рассматривать их как аналог литературы:
Образ, фикция, модель, метафора — петушиные бои становятся средством выражения; их функция — не успокаивать общественные страсти и не разжигать их (хотя, вовлекая человека в игру с огнем, они понемногу делают и то и другое), но посредством перьев, крови, толпы и денег изобразить их.
Итак, у петушиных боев есть еще одна функция: «балийское прочтение балийского опыта, история, рассказываемая ими о самих себе». Но и это еще не все. Каждый метод-предшественник по-своему прав и не прав. Правы — в том, что предлагают собственные прочтения, тем более что подтверждения им можно найти в самом «тексте». Балийцы в самом деле насмешливо сравнивают петухов с пенисами, система ставок у них очень продуманна и строга (Гирц посвящает целый отдельный раздел для ее подробной реконструкции), крушение статуса владельца проигравшего петуха и триумф статуса хозяина петуха-победителя цементируют все действо, обучающие и ритуальные элементы в игре тоже присутствуют, а для понимания того, «что значит быть балийцем», это увлечение важно не меньше, чем местная мифология, религиозные практики или структура родственных отношений и деревенских альянсов. Не правы же предыдущие методы в том, что представители каждого из них полагают, будто бы именно они нашли ключ к пониманию того, что же такое петушиные бои на Бали. То есть дали одну интерпретацию происходящего (тонкое описание вместо насыщенного) и решили, что закрыли тему.
Гирц же считает, что любая интерпретация, наоборот, открывает дискуссию и запускает процесс дальнейшего интерпретирования. Сам он от претензий на окончательную истину демонстративно уходит — вплоть до того, что на протяжении статьи регулярно противоречит сам себе. Петушиные бои — это пример «кровавой бойни статусов» (выражение Ирвинга Гофмана) vs. «но в действительности ничей статус не меняется» (курсив Гирца). Балийские женщины не могут даже смотреть на игру, они исключены из нее vs. женщины присутствуют по краям ринга, играя в другие азартные игры. Бой петухов не может быть отражением экономического обмена, поскольку деньги циркулируют внутри одной деревни или округи, и у ставок нет сугубо прагматической функции vs. петушиные бои в деревне Тиинган (это там, где произошла облава) были организованы для того, чтоб собрать средства на строительство новой школы. Экономика игры имеет чисто символическую роль, ведь мало кто играет ради наживы, для большинства деньги выполняют второстепенную роль по сравнению с битвой за престиж vs. система ставок и пари так важна и скрупулезно продумана именно потому, что «в этом нематериалистическом обществе деньги имеют значение, и притом очень большое, чем большей суммой человек рискует, тем больше он одновременно рискует такими вещами, как гордость, самообладание, бесстрастие, мужественность».
Противоречия здесь — во многом кажущиеся. Можно находиться рядом с рингом и при этом не смотреть на игру, ритуально отворачиваясь. Можно презирать тех азартных игроков, кто участвует исключительно ради денег, и не стремиться к обогащению — и при этом каждый проигрыш больно ударяет по кошельку, а выигрыш можно пожертвовать на общественно полезное и затратное дело. Статусы не меняются в одной плоскости социальных взаимодействий (знатный человек не теряет знатности, если его петух проиграет), но могут утрачиваться в других смыслах. Гирц рассказывает историю игрока из касты кшатриев, азартного до одержимости, которого за глаза считали дураком и психически больным, а внешне выказывали почтительность в соответствии с его положением в общественной иерархии. Все эти факты трудно уложить в единую систему отношений, если считать их равнозначными, — зато если развести их по разным уровням, то несовместимости окажутся мнимыми.
Многоярусные интерпретации, где в каждом новом ракурсе рассказывается что-то свое, а разные уровни не сводимы друг к другу, — это и есть сама жизнь во всем ее семиотическом многообразии. Поэтому вместо того чтобы редуцировать сложность и внутренние противоречия реальной жизни к простому и ясному, но однобокому пониманию, подкрепленному столь же односторонним методом, Гирц предпочитает охватить ее целиком. Пусть даже ценой этого выбора select all станет утрата научной строгости анализа — и замена ее свободой субъективной интерпретации.
Петушиный бой, как и любая другая ситуация, — это пространство диалога, который ведут между собой его участники. Антрополог вторгается в этот диалог — сначала как непрошеный гость, а позже, если повезет, то и как равноправный собеседник. Отличие его от остальных участников — в том, что он еще и переводчик. Понимая, что нет абсолютно эквивалентных языков, и зная, что большой пласт смыслов так и останется непереведенным, он тем не менее старается создать хотя бы примерное подобие текста-оригинала, чтобы в межкультурную коммуникацию включились новые собеседники — все со своими собственными языками.