Персты милосердных колдуний
Интервью с Дмитрием Баком о поэзии Арсения Тарковского
— Не так давно вышел третий том серии «Тарковские. Из наследия», а в примечаниях к предыдущему тому указано, что некоторые стихотворения Арсения Тарковского впервые были напечатаны только в нем. Первый сборник стихов Тарковского вышел еще в 1962 году, но выходит, что, даже получив возможность публиковать стихи, поэт многое оставлял в рукописях. Почему?
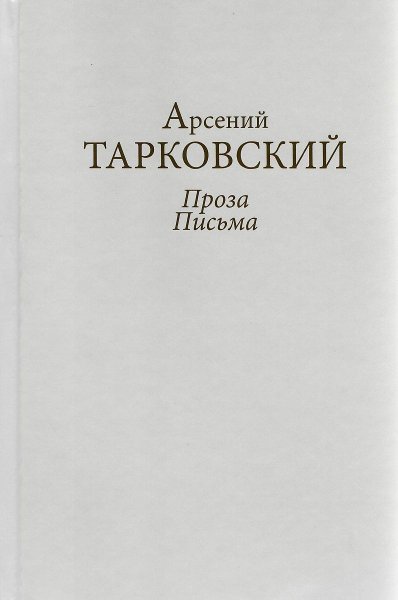 — Я бы выделил два тезиса. Во-первых, на вечере памяти прекрасного поэта Марии Петровых 22 октября 1979 года Арсений Тарковский сказал, что «стихи пишутся для того, чтобы их написать, а не для того, чтобы их читать или печатать, это все уже пришло потом, самое важное, что стихи написаны и написаны они для того, чтобы их написать. Для этого и существует поэзия, а будут их читать или нет, я бы сказал, что это вторичное дело». Ясно, что в этом поэтическом кредо есть своя метафизика, мужественное абстрагирование от внешних обстоятельств, условий опубликования стихов, от цензуры и т. д. Именно таким поэтом, автономным от «печатного станка», пребывающим наедине со смыслами и Богом, и ощущал себя Арсений Тарковский в течение многих лет.
— Я бы выделил два тезиса. Во-первых, на вечере памяти прекрасного поэта Марии Петровых 22 октября 1979 года Арсений Тарковский сказал, что «стихи пишутся для того, чтобы их написать, а не для того, чтобы их читать или печатать, это все уже пришло потом, самое важное, что стихи написаны и написаны они для того, чтобы их написать. Для этого и существует поэзия, а будут их читать или нет, я бы сказал, что это вторичное дело». Ясно, что в этом поэтическом кредо есть своя метафизика, мужественное абстрагирование от внешних обстоятельств, условий опубликования стихов, от цензуры и т. д. Именно таким поэтом, автономным от «печатного станка», пребывающим наедине со смыслами и Богом, и ощущал себя Арсений Тарковский в течение многих лет.
Во-вторых, за пределами публикаций остались по преимуществу те стихи, которые сам поэт решил не публиковать, то есть не соответствовавшие, по его мнению, той высочайшей планке, которую он сам себе задал. Публиковать эти тексты следует с должной мерой осторожности и обдуманности, снабжать комментариями и т. д. Все это содержится в публикациях, которые за последние три десятилетия подготовили крупнейшие специалисты по лирике Тарковского — Марина Арсеньевна Тарковская, дочь поэта, и Вячеслав Александрович Амирханян. Конечно, среди стихов, опубликованных посмертно, есть абсолютные шедевры, например, стихотворение «Макферсон» («Это ветер ноябрьский бежит по моим волосам...»), написанное в 1929 году и напечатанное более чем полвека спустя. Но это мое личное восприятие, автор же, видимо, судил иначе, потому и не публиковал это стихотворение. Кстати, мое восприятие — не лучший индикатор. Десятилетия работы с архивом поэта порою приводят к аберрациям. Мы с Мариной Арсеньевной при подготовке многотомника то и дело обменивались удивленными репликами: «Как, а разве такое-то стихотворение до сих пор не опубликовано? Как странно — мы-то с вами живем с ним, обсуждаем его уже лет двадцать с лишним...»
— В своих статьях Тарковский не раз отмечает, что для него принципиально важны «профетические» свойства поэзии, духовное воздействие художественного слова. Почему он уделял этому такое внимание? Ведь в советскую эпоху литература сама по себе обладала огромным влиянием, а ее власть над духовной жизнью была чем-то само собой разумеющимся — даже в дискурсе «официальной» поэзии.
— Несколько необходимых уточнений. Вы сейчас говорите скорее не об эстетической позиции Арсения Тарковского во всей ее полноте, а только об одной из составляющих этой позиции, пусть и важнейшей. Эстетическое кредо Тарковского яснее всего выражено в цикле статей и интервью, которые пришли к читателю в 1960–1970-е годах, когда авторитет поэта был признан безоговорочно. В них вырисовывается облик безусловного сторонника точной рифмы и регулярной силлаботоники, не терпящего никаких отступлений от строгих норм просодии, приверженца «одической» поэтики. Можно добавить, что и в самом начале пути (во многом — вопреки энтузиазму «комсомольской» поэзии) Тарковский и его ближайшие соратники тех лет (уже упомянутая Мария Петровых, а также Аркадий Штейнберг и Семен Липкин) исповедовали принципы своеобразного неоклассицизма, пусть и не в самой канонической его версии. Но и здесь необходимы контекстуальные уточнения, иначе общепринятые клише прирастут к облику большого русского поэта, не вписывающегося ни в какие готовые историко-литературные схемы.
Во-первых, поклонники Арсения Тарковского в начале 1960-х годов не могли не видеть очевидные вещи в искаженной перспективе. Тарковский многими (даже серьезными критиками) воспринимался тогда как новый стихотворец, пишущий по лекалам, выгнутым из вольного воздуха оттепели по рецептам Вознесенского — Евтушенко — Слуцкого. Но перед читателем оказался поэт, не имевший ровно никакого отношения к этим поэтам, свидетель и участник событий и баталий Серебряного века, невольный соперник Осипа Мандельштама, поздняя любовь Марины Цветаевой, собеседник и друг Ахматовой. Подчеркнутая антитеза броскому новаторству властителей стадионов обернулась чередой традиционалистских деклараций Арсения Тарковского.
 Арсений Тарковский с дочерью Мариной, 1970-е
Арсений Тарковский с дочерью Мариной, 1970-е
Во-вторых, подлинная «поэтическая метафизика» Тарковского не имела буквально ничего общего с насаждавшимися официальными догматами о «всесилии поэтического слова» и его прямом воздействии на жизнь — ср. сентенции в диапазоне от глубокомысленной иронии Слуцкого («что-то лирики в загоне...») до пошловатой самоуверенности другого поэта («Я ненавижу в людях ложь...»).
Тарковский рассуждает о той метафизике, которая в соцреалистической ортодоксии не только не могла быть поощрена, но в иные, менее «вегетарианские» времена, точно была бы признана реакционной, не учитывающей диалектику оптимистического движения вперед, к победе коммунизма. Приведу только один пример. Тарковский на протяжении многих лет серьезнейшим образом рассуждал о соотношении духа и вещи, о скитаниях души и обретении ею телесного дома, о дуальной природе слова:
У человека тело
Одно, как одиночка...
(«Эвридика», 1961)
Слово только оболочка…
(«Слово», 1945)
И наконец:
Душу, вспыхнувшую на лету
Не увидели в комнате белой,
Где в перстах милосердных колдуний
Нежно теплилось детское тело…
(«Душу, вспыхнувшую на лету…», 1976)
Особенно важен последний пример, вернее, содержащаяся в нем составная рифма «на лету не — колдуний»: ничего себе сторонник точной рифмы и регулярных метров!..
И конечно, у «раннего» Тарковского в стихах, занимающих хронологически промежуточное положение между декларативным молодым «неоклассицизмом» и столь же декларативным антишестидесятническим пуризмом, содержится немало оборотов, цитат, коренным образом противоречащих сложившемуся к началу 1980-х годов клише об «одическом» Тарковском. За примерами ходить недалеко, приведем лишь один:
Там, у вокзала, стоит бронепоезд в брезенте
И брат меня учит стрелять из лефоше,
А в городе Медеме дети играют сонаты Клементи
И пахнет сухими цветами саше.
(«Приглашение в путешествие», 1937)
— Насколько я понимаю, Тарковский довольно долго жил в Переделкине. Это было чисто внешним обстоятельством или у него образовались там какие-то существенные для его жизни и/или творчества связи?
— Сложная, многогранная тема. Тарковский хорошо знал и ценил дачную, пригородную жизнь, близость к природе, много прекрасных дней и месяцев еще до Переделкина провел в Голицыне. Однако в его лирике именно переделкинские реалии не оставили большого следа просто в силу специфики поэтики Тарковского, почти исключавшей бытовую конкретность и прототипичность. Кроме того, во многом это были уже годы бездомовности и бесприютности, связанные с глубоко личными переживаниями поэта, о которых не принято говорить вслух. В воспоминаниях других литераторов — да, мы часто видим Арсения Тарковского переделкинским жителем, у самого же поэта скупость местных деталей и подробностей, пожалуй, гармонирует с почти демонстративной скупостью рассуждений и рассказов о себе, взятом в бытовом, а не фундаментально духовном измерении.
 Арсений Тарковский на природе. Фото: А.Н. Кривомазов
Арсений Тарковский на природе. Фото: А.Н. Кривомазов
— Как можно охарактеризовать отношения Тарковского с властью? По своему мировосприятию он явно не был ей идейно близок, однако никогда не выступал против, в войну печатал ортодоксальные фронтовые стихи в газете «Боевая тревога». Разделял ли поэт пафос социалистического проекта?
— В самом вашем вопросе виден перестроечный стандарт рассуждений о поэзии советского времени. Во второй половине 1980-х случилось «крушение кумиров»: место советских классиков (в широчайшем диапазоне — от Демьяна Бедного до Маяковского) заняли репрессированные и замалчивавшиеся поэты (эмигранты, авангардисты и т. д.), от Мандельштама и Цветаевой до Хармса, Ходасевича и Георгия Иванова. Даже слава былых стадионных бунтарей («Вознесенский-Евтушенко-Рождественский») померкла перед каноном барачных «Холина-Сатуновского-Кропивницкого». И все это, конечно, глубоко закономерно, но только в масштабах момента и конкретных имен. Никому же не придет в голову всерьез превозносить Егора Исаева в ущерб Бродскому! Однако все дело в том, что при попытке расширительного толкования подобная cancel ethic дает ощутимые сбои.
Да, Мандельштам имел полное право сформулировать предельно резко, «бинарно»: «Все произведения <...> я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух». По воспоминаниям Семена Липкина, он столь же жестко развел по разным углам и себя с молодым Арсением Тарковским: «Давайте разделим землю на две части: в одной будете вы, в другой останусь я».
Вернемся к сути вопроса. «Литературное поле» советской эпохи четко разделено на два сектора: подцензурный и неподценззурный. И самое важное, глубокое, разнообразное, эстетически продуктивное происходит где угодно, но только не на обозначенных полюсах. Художественная полновесность так же мало гарантируется прямым воспеванием вождей и соцсоревнования, как и прямыми инвективами в адрес режима. Протестанты и ортодоксы в равной степени предсказуемы, главное же происходит среди тех литераторов, которые прошли мимо этого водораздела. Конечно, игнорирование сложных вопросов во многих случаях оборачивается двойной моралью, а то и прямой трусостью. В случае Тарковского подобная автономия от вопроса «с кем вы, мастера культуры?» является глубоко органичной, природной — вот ответ на поставленный вопрос.
Что же до стихотворений в газете «Боевая тревога» — читали ли вы их? Давно ль? Они абсолютно честны и естественны! О чем там было писать боевому офицеру Тарковскому? Сталинизм критиковать?
 Арсений Тарковский с сыном Андреем. Источник
Арсений Тарковский с сыном Андреем. Источник
— Тарковский много занимался переводами — можно ли найти следы влияния, которое оказывали на него переводимые им поэты? Это кажется особенно важным в свете того, что о каком-то существенном влиянии литературы Кавказа и Средней Азии на русскоязычную поэзию говорят редко, и случай Тарковского — редкая возможность поставить такой вопрос.
— Прямого влияния переводимых поэтов на оригинальную лирику Тарковского, пожалуй, не просматривается, по крайней мере, в перспективе моих (весьма ограниченных незнанием языков) контуров компетентности. Тарковский заново воссоздал по-русски потрясающую лирику Аль-Маарри, Махтумкули, но прямое родство этих и других «героев» переводческой работы с его собственным поэтическим творчеством состоит не в «содержании» и не в просодии. Главное схождение, на мой взгляд, в стремлении к табличной точности (поверх осуждения буквализма, характерного для советского переводческого дела).
Помните: «Был язык мой правдив, как спектральный анализ...»? Это главная характеристика вершинных достижений Арсения Тарковского как в переводах, так и в оригинальной поэзии. И пусть не цитируют без конца набившие оскомину (но оттого не менее потрясающие своею точностью) строки о болящей от восточных переводов голове...