Памук, Данилкин и распад СССР
Читательская биография исторического социолога Георгия Дерлугьяна. Часть вторая
«Быть аспирантом Валлерстайна оказалось делом нелегким и рискованным»
Как формировался ваш круг чтения в американский период, когда вы стали аспирантом Валлерстайна? Какую роль в этом сыграли американские библиотеки и как происходило становление ваших научных интересов в то время?
Библиотеки американских университетов — это потрясение. Даже в не самом богатом Бингемтоне в 1990 году было 3,5 миллиона книг, а сейчас уже наверняка гораздо больше. И все в открытом доступе, броди среди полок хоть круглые сутки и читай тут же в кресле. Славянский библиограф Джулиана Драничак во время первой экскурсии попросила задать ей слово для поиска. На мое «Краснодар» (а какое же еще?) [родной город Дерлугьяна — прим. ред.] она подвела меня к стеллажу, где полторы полки были плотно заставлены, а остальное место ожидало новых поступлений. Там были до боли знакомые советские книжечки вроде постановлений пленумов краснодарского крайкома КПСС по развитию сельского хозяйства и «Борцов за власть Советов на Кубани» — и тут же рядом записки атамана Шкуро и мемуары деятелей Казачьей Рады 1918 года.
Мне пришлось осваивать весь корпус западной социологии и политологии, поскольку в советские времена я был историком-африканистом. Быть аспирантом Валлерстайна оказалось нелегким и рискованным делом: к началу 1990-х он уже не принадлежал к мейнстриму, который к тому времени разделился на лагеря, одинаково чуждые материалистическому и структурному пониманию истории, — на экономические модели рационального выбора и на постмодернистское философствование. «Знающие» люди не раз советовали, ради научной карьеры, скрывать знакомство с Валлерстайном, сделавшимся «токсичным», и заняться чем-то более общепринятым среди американских социологов — вроде демократизации постсоветских стран или, еще лучше, изучением матерей-одиночек в бедных кварталах Филадельфии.
Так что пришлось учиться обороняться, что предполагает знание оппонентов с разных флангов. На это ушло около десятилетия интенсивного чтения. Но, конечно, я действовал не в одиночку. Мне очень помогали удивительно чувствовавший противоречия в текстах Бенедикт Андерсон, а также турецкий профессор, невероятный эрудит Чаглар Кейдер и выдающийся советолог и просто замечательно радушная Валери Банс. Ну а когда сам Бурдье начеркал мне на открытке Vous avez beaucoup de talent [у вас много талантов — прим. ред.]… Как видите, я выжил.
А что обычно читает сам Валлерстайн?
Ему в сентябре исполняется 88 лет. Силы, конечно, уже не те. В Москве мы как-то нашли один еврейско-азербайджанский ресторан, где дают скидку на столько процентов, сколько лет исполнилось юбиляру. Именно там Валлерастайн твердо собирается отметить свою 101 годовщину.
Иммануил многие годы прочитывал свою обычную норму, до 400–500 страниц в неделю. В домашней библиотеке, где в былые приезды меня размещали на кушетке, на столах и полках аккуратно высились стопки книг, целиком научных, многие с закладками. Правда, в томе Никласа Лумана закладка была на 36-й странице и выглядела слегка пожелтевшей. На мое недоумение последовал ответ: «Дважды приступал к чтению, доходил до этой страницы и задумывался — вот человек выстроил себе изысканно сложный лабиринт, но я-то в нем что делаю?»
На ночь Валлерстайн непременно читает художественную литературу — как и свежую газету утром. Вкусы у Иммануила довольно старомодные. Например, один из его любимых американских писателей ныне почти забытый Уильям Сароян, ранее входивший в тройку вместе с Фолкнером и Хемингуэем. Не знаю, почему Сароян выпал из литературного канона, но мне обидно за этого калифорнийского армянина. Может, он слишком сентиментален на новый вкус?
Каждый сентябрь я озорничаю и на день рождения посылаю мэтру книгу с условием поделиться впечатлениями. В прошлом 2017 году это был «Октябрь» Чайны Мьевиля и комикс «Смерть Сталина», по которому был снят фильм. Я получил ремарку в обычном духе Валлерстайна: «Слава богу, они хотя бы о ней объявили!»
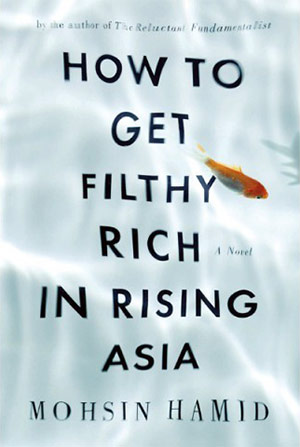 Пару лет назад я преподнес ему небольшой остроумно-печальный роман пакистанского писателя Мохсина Гамида с говорящим за себя названием «Как безобразно разбогатеть в восходящей Азии» (кажется, на русский не переводилось, а надо!).
Пару лет назад я преподнес ему небольшой остроумно-печальный роман пакистанского писателя Мохсина Гамида с говорящим за себя названием «Как безобразно разбогатеть в восходящей Азии» (кажется, на русский не переводилось, а надо!).
А пятнадцать лет назад в подарок с умыслом был отправлен сборник эссе о науке знаменитого американского палеонтолога Стивена Джея Гулда «Полный сбор: распространение совершенства от Платона до Дарвина». Помимо удивительной способности писать элегантные и парадоксальные эссе о естественной истории, Гулд и его друг-соавтор Найлс Элдридж вошли в историю науки как авторы теории прерывистого равновесия в эволюционном возникновении новых видов животных. Реакцию Валлерстайна я требую занести в протокол: «Что сказать, если я на сто процентов согласен? Это миросистемный анализ в биологии». Жалею об одном. Стивен Джей Гулд умер в 2002 году, и я не успел познакомить его с Валлерстайном. Что ж, Маркс ведь тоже не был знаком с Дарвином — они жили в Англии в одну эпоху, но друг о друге слышали.
«Наверстываю при помощи Данилкина пропущенные мною изменения в русской литературной речи»
Часто ли вы читаете художественную литературу? Вы воспринимаете худлит как социолог или как «наивный» читатель?
По выражению Виктора Степановича Черномырдина, не до того нам было в девяностые. Мой сын, самостоятельно выучившийся к двадцати пяти годам читать по-русски (первый язык у него английский), накупил в ереванском «Букинисте» советских собраний сочинений Толстого, Гоголя, Тургенева, которых я не читал со школы. Теперь он советует мне по скайпу из Калифорнии: «Папа, читай „Санькю” Прилепина, он политически странный, но это класс!»
Орхан Памук, еще до получения Нобелевской премии, бывал у нас в университете и не раз упоминал, что для него как писателя, особенно в период становления, была важна русская классика. На мой вопрос, кто из писателей для него важнее остальных, Памук дал неожиданный ответ: «Александр Герцен. Западник и одновременно любящий патриот своей презираемой азиатской страны. Для Турции очень актуально». Уже десять лет собираюсь взяться за его «Записки одного молодого человека».
Пока же с великим удовольствием читаю Льва Данилкина. Начал с недавно вышедшей биографии Ленина и в итоге заказал на «Амазоне» все его книги. Совершенно новый для меня русский язык, да какой! Наверстываю при помощи Данилкина пропущенные мною изменения в русской литературной речи.
В устном формате с удовольствием и изумлением слушаю в интернете лекции военного историка из Питера Клима Александровича Жукова. У него и подавно все «прикольно», полно иронических речевых прибамбасов, однако в то же время профессионально.
Недавно перечитывал братьев Стругацких, Ивана Ефремова и Станислава Лема, но подтолкнула к этому чтению социология. Меня в последнее время занимают образы будущего, особенно после того, как с Валлерстайном, Коллинзом, Манном и «примкнувшим» к нам директором Лондонской школы экономики Крэйгом Калхуном написали книжечку «Есть ли будущее у капитализма?». Сейчас она переведена уже на полтора десятка языков, от корейского до финского, в том числе и на русский. Успех. Однако из головы не идет: что мы там недодумали?
Меня волнует вопрос: почему фантастика середины ХХ века, написанная в западных демократических странах, наполнена мрачными предчувствиями техно-тоталитарного будущего, а восточноевропейские фантасты, испытавшие на себе тоталитаризм (тот же Лем выжил в оккупации во Львове), напротив, конструируют нечто светлое? Это не бегство от реальности и тем более не идеологический заказ. Причем я берусь доказать, что западные техно-тоталитарные кошмары нереалистичны. Не бывает такой единой воли в элитах самых тоталитарных из известных нам режимов, там всегда грызня и масса провалов. Почитайте того же Адама Туза об экономической элите нацистов. У ранних Стругацких и Ефремова меня как социолога озадачивают элементы реализма в их эскизах светлого будущего. Сами посудите, куда приведет развитие нано- , био- и информтехнологий к XXII веку? Конечно, если человечество совладает с угрозами XXI века.
Есть ли еще писатели, которые вместе с вами на протяжении многих лет?
«КОАПП» и «Швейка» я уже упомянул. Сознаюсь, есть еще одна, с картинками — «Армянская кулинария» 1960 года издания, национальное продолжение «Книги о вкусной и здоровой пище». Она была со мной даже в Мозамбике. Среди войны, малярии и голода я тогда умудрился дойти до 56 килограммов живого веса — открываешь книгу на цветной иллюстрации «Праздничный стол, накрытый к подаче армянских национальных сладостей». Почти как в «Швейке»: сцена мечтаний в симулянтском бараке.
«Для социолога первейший вопрос — почему?»
В книге «Адепт Бурдье на Кавказе» и других ваших работах представлен непривычный взгляд на Кавказ и на траектории постсоветских государств в целом. Не могли бы вы в общих чертах описать ваш исследовательский метод и рассказать, благодаря каким книгам он сложился?
«Адепт Бурдье» — это рассказ очевидца распада СССР в пику обычным тогда столичным мнениям, будто все произошло из-за «парада суверенитетов» национальных республик и автономий. Вожди тогдашних «этнократий» (словечко-то какое придумали!) рисовались в публицистике и журналистике тех лет одномерными персонажами, без узнаваемого советского прошлого, ошибок и внутренних противоречий.
Все мы, успевшие отслужить в каких-нибудь развед- и аналитических подразделениях в странах Третьего мира и вернувшиеся в конце 1980-х в неузнаваемую Москву, знали, что так не бывает! Происки неясных врагов и пресловутые «силы, заинтересованные в дестабилизации» — химера и «отвлекалка», призванная прикрыть непонимание реальности и заодно многие провалы начальства. Реальность конкретнее, проще, грубее, случайнее. При этом важные факты лежали буквально на поверхности, но их не замечали, потому что все были заняты поиском закулисных махинаций.
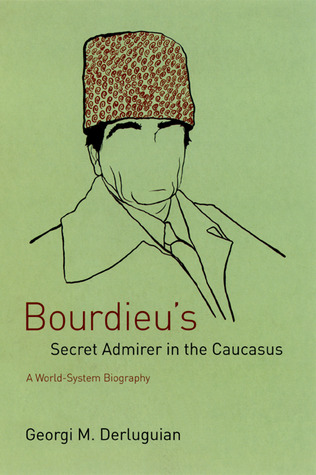 Например, вместе с провалом перестройки во главе Армении оказывается специалист по средневековым армянским манускриптам Левон Тер-Петросян; в Азербайджане — Абульфаз Эльчибей, прежде изучавший средневековую тюркскую поэзию; в Абхазии — Владислав Ардзинба, уважаемый историк анатолийской мифологии Бронзового века; в Грузии — шекспировед Звиад Гамсахурдия, которого свергают скульптор-модернист Тенгиз Китовани и профессор-киновед Джаба Иоселиани (по распространенным слухам, одновременно вор в законе, что вообще-то не вяжется с воровскими понятиями).
Например, вместе с провалом перестройки во главе Армении оказывается специалист по средневековым армянским манускриптам Левон Тер-Петросян; в Азербайджане — Абульфаз Эльчибей, прежде изучавший средневековую тюркскую поэзию; в Абхазии — Владислав Ардзинба, уважаемый историк анатолийской мифологии Бронзового века; в Грузии — шекспировед Звиад Гамсахурдия, которого свергают скульптор-модернист Тенгиз Китовани и профессор-киновед Джаба Иоселиани (по распространенным слухам, одновременно вор в законе, что вообще-то не вяжется с воровскими понятиями).
К власти шли и физики, но почему-то практически везде их опередили лирики. Может, потому что они ярче выступали на митингах? Физики и математики в большей степени реализовали себя в бизнесе, особенно на бирже и в финансах, но это уже отдельный вопрос.
Вообще, для социолога первейший вопрос — почему? Чарльз Тилли даже написал монографию с рекордно кратким заглавием «Why?».
И почему же СССР распался?
По темам дипломных работ и диссертаций советского периода я с большой уверенностью мог предсказать, кем в бизнесе и политике будут их авторы после 1989 года. Скажем, выход России из состава Советского Союза планировали советники Ельцина — большинство из них некогда увлекались количественными методами и ролевыми играми. Некоторые из них участвовали в самодеятельных театрах или слетах бардовской песни, посещали лекции кибернетиков и культового философа Георгия Щедровицкого.
О чем это говорит? О том, что в позднем СССР, особенно среди младшей интеллигенции, возникла закупорка вертикальной мобильности и начался рост личных доходов. Наши герои искали реализации — и с перестройкой оседлали тех коней, которые оказались им ближе. В этом смысле ценный источник дает нам недавняя (хотя и не самая приятная в человеческом плане) толстенная книга интервью, собранных Петром Авеном, — «Время Березовского».
Почему именно эти люди смогли оседлать тех или иных «коньков»? Да потому что вдобавок к удачно выпавшей случайности располагали необходимыми навыками и связями, значение которых вдруг резко выросло с разрушением ограничителей советского образца. Так я сам неожиданно стал американским профессором, а другие — либеральными реформаторами, олигархами, националистами, боевиками.
В «Адепте Бурдье» описывается, с чего начинали свои карьеры молодые советские чеченцы Зелимхан Яндарбиев (поэт) и Мовлади Удугов (тоже поэт и журналист многотиражки), Шамиль Басаев (отчисленный с первого курса, зато получивший от кубинского сокурсника портретик Че Гевары) и Руслан Гелаев (механизатор совхоза).
Ко всем этим людям у меня было три основных вопроса: кем вы были до 1989 года? кем вы рассчитывали стать при сохранении советских реалий? как вы стали тем, кем стали?
Все это можно просчитать на микроуровне личных траекторий, где применим инструментарий Бурдье: габитус, символический капитал. Следом надо переходить на структурный уровень. Откуда вообще появились те «кони», которых в начале девяностых ловили наездники?
А это уже вопрос о структуре позднесоветского общества и экономики. Здесь лучше подходит анализ стратегий создания современного государства в духе Чарльза Тилли и классовый анализ в русле модифицированного марксизма. Мне пришлось потратить много сил на аналитическое описание советской интеллигенции, оказавшейся в положении пролетариата, вынужденного жить на одну зарплату и под контролем бюрократической иерархии. Интеллигенция стремилась стать средним классом, высокооплачиваемыми независимыми профессионалами либо публичными творческими и политическими деятелями. В сущности, многие и сейчас еще надеются на это — что в Украине, что в России и в Армении.
Еще труднее описать разношерстную категорию «субпролетариев» — всевозможных шабашников, отходников, водил и бомбил, базарных торговок, парней из суровых пригородов, вплоть до криминальных групп. Это они будут бить стекла, а затем под символическим предводительством интеллигентов-ораторов возьмутся за оружие в этнических конфликтах на Кавказе. И не только там.
Но микро- и мезоуровней анализа недостаточно для объяснения неожиданно безоглядной готовности советского руководства устроить перестройку. На какие проблемы они реагировали? Куда Горбачев и окружавшие его товарищи могли привести сверхдержаву, даже если двигались вслепую из-за своей идеологической зашоренности? Здесь уже требуется макроисторический анализ советской версии военного социализма в контексте геополитики и изменяющейся капиталистической миросистемы ХХ века. На этом уровне работают теории Валлерстайна, Рэндалла Коллинза и необычного советолога Валери Банс. Все трое по-разному предсказывали конец советской коммунистической сверхдержавы задолго до перестройки.
В более сжатой форме об этом повествует моя глава в книге «Есть ли будущее у капитализма?». Чем был реальный опыт построения альтернативы капитализму в ХХ веке? Почему коммунистический проект возник, отбился от гитлеровского нашествия, охватил треть мира, запустил Гагарина в космос, а затем после 1968 года впал в брежневский ступор и вдруг прекратил свое существование в мирном 1989 году? (В том числе и в маоистском Китае, где у власти до сих пор находится номинальная компартия.) Не указывает ли это на то, что и в СССР перестройка могла обернуться капиталистическим успехом в союзе с Западной Европой?
Коммунистическая модель в контексте современной миросистемы, увы, была обречена на вырождение по образцу оруэлловской «Скотофермы». Валлерстайн давно, еще в 1969 году, заметил, что коммунистические государства не создают отдельной «мировой системы социализма», сколько бы эту фразу ни повторяла их собственная пропаганда. Эти идеологически антисистемные страны подобны фабрике, захваченной в ходе забастовки профсоюзом и почему-то брошенной хозяевами. Если забастовщики запустят производство на фабрике, им придется действовать по внешней логике рынка, закупать сырье и сбывать продукцию. В конце концов это приведет к образованию элиты управленцев и торговых посредников, и те со временем захотят покончить с притворством и открыто превратить себя в новых хозяев.
Могла бы такая сверхдержава встроиться в капиталистическую Европу целиком? Без советского размаха, предсказывали Арриги и Валлерстайн в 1991 году, на фоне хаотического распада СССР, отдельные республики, может, и приплывут к берегам Америки. Только они достигнут Южной, а не Северной Америки. Так был ли наряду с коммунизмом обречен Советский Союз?
Оказалось, что на такие глобальные вопросы можно отвечать с советской периферии, откуда-нибудь из Нальчика, расположенного недалеко от моего Краснодара и потому мне интуитивно понятного. Изумивший самого Пьера Бурдье пример Шанибова (почтенного кабардинца в папахе, президента полумифической Конфедерации горских народов Кавказа, с зачитанной книжкой Бурдье в руках!) на самом деле находится в одном историческом потоке с траекториями моих собственных родителей. Мама, родившаяся в кубанской станице в самые лихие годы раскулачивания и голода, перебралась после войны в город, где стала телеграфисткой и заботливой хозяйкой. Гладила белье, настроив при этом транзисторный радиоприемник на «Голос Америки», и приговаривала: «Брешут все, что наш Леня Брежнев, что эти!» И мой отец, из наследственных армянских ремесленников-скорняков выбившийся в директоры завода, презиравший заносчивых бездельников из райкома партии и одновременно боготворивший Ленина, который создал великую страну.
Эту мозаику впечатлений я и встраивал в теории макросоциологии. Если в 1970-е годы так ощущали себя мои родители в провинциальном Краснодаре, не те же ли сомнения роились в голове у Михаила Горбачева, родившегося в Ставрополье?
«Адепт Бурдье на Кавказе» писался по горячим следам, однако теперь это уже историческое исследование. Молодые кавказцы пишут мне, что из этой книги они узнают о том, что происходило в их младенческие годы. Пора бы заново отредактировать книгу и переиздать ее на русском. А на английском она до сих пор вполне бойко продается благодаря университетским курсам по современной истории.
От переводов к популяризациям
Интересуетесь ли вы работами современных российских гуманитариев, следите ли за кем-то из них?
Да, конечно, интересуюсь. Читаю в основном по истории, в том числе досовременной, отчасти по антропологии и политологии бывших советских обществ. Едва читаю публицистическую полемику, она ходит кругами, что само по себе показательно. Порою кажется, что со времен перестройки мало что изменилось.
Как вы уже догадались, я не только читаю, но и много слушаю в интернете. Знаете, мне ведь тоже иногда приходится гладить, как некогда моей маме с ее транзистором, а еще мне приходится много часов проводить в самолетах и автомобиле. Также стало уже понятно, что интересуюсь я не только сугубо гуманитарными предметами. Сам удивляюсь, сколько во мне осталось от детского увлечения «Астрономией в картинках» и роботов Рам и Рум. Их девиз был — «Ученье — свет, а информация — иллюминация!».
Я жаден до интересной информации, и ее в России немало, если вы ее замечаете. Возрождается качественная научная журналистика, за которой наблюдаю в интернете, на Полит.ру например.
Какие книги из вашего основного круга чтения, еще не переведенные на русский, обязательно должны дойти до российского читателя? Остаются ли еще системообразующие работы по макроисторической социологии, которые пока не переведены на русский?
В обязательном списке остается все меньше наименований, хотя постоянно появляются новые. Основной массив литературы по макроистории и экономической истории уже переведен во многом благодаря усилиям неутомимого издателя Валерия Анашвили и некоторых других. Недавно впечатляюще заявило о себе, например, «Издательство Университета Дмитрия Пожарского». Есть проблемы с качеством переводов и особенно с распространением книг, однако книги выходят, их читают, появляются рецензии.
Кое-что уже пора переиздавать, причем ведь есть потенциальные бестселлеры — к примеру, «В погоне за мощью» Уильяма Мак-Нила. Там речь идет об арбалетах, алебардах, мушкетах — при хорошей полиграфии и с иллюстрациями должно пойти влет.
Я большой сторонник научной популяризации. Например, эконом-демографический историк Сергей Александрович Нефедов создал три учебника по истории: античности, средневековья и раннего модерна. Добротный нетривиальный текст с хорошо подобранными иллюстрациями, но пока он существует только в электронном формате. Я опробовал учебники Нефедова на родственниках, и это вполне себе представительная социологическая выборка. Тут и муж племянницы, он москвич и до мозга костей технарь, и свояк-полковник, и моя уважаемая теща Беата Хуршудовна, школьная учительница. Макроистория в нефедовском изложении воспринимается ими на ура!
Мне очень нравится то, что делает анатомический антрополог Станислав Дробышевский, проявивший себя как незаурядный популяризатор. У него теперь начали выходить книги, буду следить за ними.
Вообще, мне кажется, что сейчас наступает время перевода фундаментальных западных работ и отечественных популяризаций.