От Высоцкого к Гильгамешу
Научная биография шумеролога Владимира Емельянова
— С чего все начиналось? Как вы увлеклись Древним Востоком и как вы стали шумерологом?
 Владимир Емельянов
Владимир Емельянов
— Я всегда интересовался историей литературы. Был такой специфический исторический момент, когда печатная литература дополнялась литературой магнитофонной. И мне была интересна эта новая поэзия, в особенности Высоцкий. Я им много занимался, как ни странно, с двенадцати лет. Уже в это время мне были доступны машинописные сборники, сделанные с черновиков Высоцкого. Я занимался стихами и песнями военной тематики. Результатом этой работы стало сочинение «Эхо войны в поэзии Высоцкого», которое позволило мне выиграть всероссийскую олимпиаду по литературе 1985 года, посвященную 40-летию Победы.
По мере того как я изучал историю литературы, я понимал, что печатной литературе предшествовала литература устная. Я стал интересоваться фольклором, но довольно быстро понял, что фольклорные тексты, которые называют древними, на самом деле не древние, они содержат в себе пласты разных эпох. Поскольку это тексты не письменные, их нельзя точно датировать. Дальше с шестого по десятый класс я начал методом отсеивания искать ту область, с которой связана древнейшая история литературы. То есть тот начальный период ее истории, когда литература уже перестала быть фольклором, но еще не перестала быть словесностью и не ушла в чистую эстетику. Прежде всего я понял, что буду заниматься Востоком, и именно в восточной литературе будут корни литературы как таковой. Дальше начались мои странствия по разным дисциплинам. Мне долго нравилась африканистика, но она не годилась, потому что единственная настоящая африканская литература — это эфиопская, и она начинается только с IV века нашей эры. Потом я стал интересоваться арабской литературой. Я прочел довольно много книг по арабистике и решил, что буду поступать на арабскую филологию. Но тут оказалось, что и арабская литература зависит от более древних литератур, древнееврейской и шумеро-аккадской. А увидев, что от шумеро-аккадской литературы зависит сама Библия, я понял, что именно этой литературой и надо заниматься, ничего древнее нет.
Так я постепенно пришел к выводу, что мне нужно быть ассириологом. Проблема заключалась в том, что набор на ассириологию был один раз в пять лет, поэтому пришлось выбрать арабскую филологию.
Здесь я хочу сделать одно примечание: когда я был старшеклассником, то окончил два малых факультета — малый Филологический и малый Восточный. Первым был малый Филологический факультет. Мне страшно повезло, потому что еще были живы корифеи русской филологии Г. П. Макогоненко, Г. А. Бялый, В. А. Мануйлов, находился в расцвете сил В. М. Маркович, и они читали у нас лекции на малом факультете. После года обучения я понял, что точно не буду русистом или филологом-классиком, мое дело — Восток. Тогда я со следующего года перешел на малый Восточный факультет, где занимался в группе арабистов-филологов. Там меня готовили ученицы А. А. Долининой. Так что мне было довольно легко поступить на арабскую филологию с удостоверением об окончании малого Восточного факультета и дополнительным баллом за олимпиаду.
Я поступил, учился, но через полгода объявили, что грядет набор на ассириологию. И на втором курсе я стал параллельно ходить к первокурсникам-ассириологам. Сто первых клинописных знаков я выучил сам, а дальше читал тексты с первокурсниками. Думал, что перейду, но по окончании второго курса меня взяли в армию. Я ушел рядовым. Целый год я был в армии, но даром времени не терял, а продолжал заниматься аккадским и арабским языками и даже написал там одно небольшое сочинение, которое потом стало моей курсовой работой на третьем курсе. По истечении года службы всех студентов «амнистировали», и я тут же стал переводиться на ассириологию. Необходимо было сдать разницу в предметах за два года: исторические дисциплины и сами древние языки. В течение трех недель я сдал двенадцать экзаменов и четыре зачета. После этой сессии я уже ничего больше не боялся в жизни.
Все удивлялись моему переходу на ассириологию, потому что она не была популярной, туда сгружали всех, кто не попал на более престижные отделения, например арабское или китайское. А когда я сам стал туда рваться, многие крутили пальцем у виска. Но никто не знал, что ассириология давно является предметом моих поисков.
Словом, я благополучно перевелся и попал в школу ассириологов под руководством И. М. Дьяконова, где сначала меня учили его ученики, а потом и он сам. Было это таким образом. У нас в университете преподавал отличный педагог, Р. А. Грибов, и те, кто прошел начальную школу Грибова, приглашались в кабинет древневосточной филологии в Институт востоковедения (ныне Институт восточных рукописей РАН. — С. Ч.), где сидел Игорь Михайлович. Там уже начиналась высшая школа ассириологии. Но почему мы ходили к нему, а не он приходил к нам? Дело в том, что Дьяконову было запрещено преподавать в университете. У него были какие-то трения с деканом нашего факультета и другими людьми, он был человеком чрезвычайно конфликтным. В результате в университете он стал персоной нон грата. Он ведь ушел в 1949 году, когда разгромили кафедру ассириологии и гебраистики, и с тех пор не преподавал. Однако вел подпольные семинары. На них собирался так называемый «невидимый колледж», в который входили студенты, аспиранты, вольнослушатели, все, кто хотел учить аккадский язык и клинопись. Игорь Михайлович читал с нами аккадский эпос о Гильгамеше и классические шумерские тексты — кодекс Урукагины, эпическую песню «Гильгамеш и Хувава». Мы получили роскошную ассириологическую школу.
Вторым человеком, который тоже устраивал подобные семинары, был В. А. Якобсон. Он преподавал у нас законы Хаммурапи, но это были совершенно неформальные занятия. Мы читали законы и сразу шел комментарий на всевозможные темы, начиная с бытовых и правовых аспектов жизни и заканчивая религиозными категориями. Фактически это было введение во всю культуру Древней Месопотамии. Если у Дьяконова мы учились филологической культуре, то у Якобсона мы учились культурологии и истории права. Эти исследователи закладывали в нас очень крепкую базу, учили нас пониманию того, что происходит в государстве, в обществе, в социальной психологии, коллективной и индивидуальной. Все эти общегуманитарные вопросы ставились ими на подпольных семинарах. Занятия были серьезные — как в университете с Грибовым и Кошурниковым, так и на семинарах у Дьяконова и Якобсона.
 Деталь стелы с Законами Хаммурапи в Лувре. Фото: Haider Adnan/flickr
Деталь стелы с Законами Хаммурапи в Лувре. Фото: Haider Adnan/flickr
Но все это время меня занимали истоки литературы, поэтому я чувствовал себя немного белой вороной. Люди, которые занимались социально-экономической и социально-политической историей, мало думали о том, как развивается литература, и еще меньше их интересовала история религии. Меня же больше всего интересовало мировоззрение. Ведь аккадская литература насквозь религиозна, а значит, мне нужно заниматься религией. А с кем мне заниматься религией? Это довольно сложный вопрос. Я встретил на своем пути одного человека, который в ассириологии был изгоем, но при этом очень сильно повлиял на мое последующее научное направление — это А. Г. Кифишин. Он был замечательным шумерологом, учеником В. В. Струве, однако у него не сложились отношения с Дьяконовым. Кроме того, он не очень хорошо умел излагать свои мысли, часто оригинальные, не имеющие аналогов в науке. Он все время забредал в какие-то дебри. Но я умею отделять зерна от плевел. Как на меня повлиял Кифишин? Я сейчас процитирую его статью о шумеро-вавилонской эстетике в первом томе «Истории эстетической мысли», в которой он высказывает две чрезвычайно ценные мысли. Он говорит, что в Шумере прекрасное определялось двумя наборами признаков — сущностными и формальными, — а также их соотнесенностью: «Шумеры различали два вида удовольствия: испытываемое во время еды и духовное удовольствие, связанное с тотемно-ритуальным миром прекрасного. Это разделение удовольствия на плотское внутреннее и духовное внешнее, от общения с богами, выражено во всей шумерской литературе». Это первая его мысль, которая стала для меня отправной точкой. И вторая его важная мысль в конце этой же статьи: «Громадный груз эстетических форм шумерской культуры не дал вавилонской эпохе самоопределиться в соответствии со своими собственными, вновь рожденными идеями, что позволяет характеризовать эстетический статус вавилонской цивилизации как затянувшийся кризис шумерской культуры». Так я понял, что в основе системы шумерских ценностей лежит представление о внешней духовной красоте, которая связана с красотой сущностной, а эта сущностная красота обусловлена ритуальным поведением и сознанием; а вавилоняне оказались не просто наследниками, но и в какой-то степени жертвами шумерской культуры, которая не позволила им стать более модерновыми. Отталкиваясь от этих двух важнейших идей Кифишина, я понял, что нужно заниматься духовной культурой. Но как?
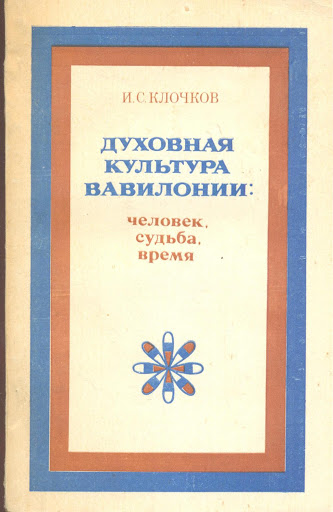 В 1983 году вышла книга И. С. Клочкова «Духовная культура Вавилонии». Это замечательная книга, но Клочков сводит духовную культуру к этике, к вопросам добра и зла. Делая это, он максимально сближает шумеро-аккадскую культуру с современной. Это хоть и важно, но ведет не по тому пути. Духовная культура начинается с ритуалов, а не с этики. Значит, мы должны понять, что такое ритуальная система ценностей, нужно углубляться в сами шумерские категории, нужно искать, что сами шумеры и вавилоняне об этом думали. Я стал искать такую работу, которая содержала бы категориальный аппарат на примере какой-нибудь другой культуры. И я нашел «Историю античной эстетики» А. Ф. Лосева. Мне было по дороге с Лосевым, но не как с философом, а как с культурологом, который изучает античные категории в границах языкового мира. Он не ставит вопрос о том, что такое идеи, он спрашивает, что такое категория эйдос и каково ее историческое развитие. В этом отношении я следовал за Лосевым, при этом сознавая, чем моя работа должна кардинально отличаться от его исследования. Он разрабатывал философские категории, то есть те, что лежат только в сфере сознания, а я занимаюсь категориями, которые существуют внутри ритуала, внутри системного ритуального поведения; следовательно, я должен копать на пласт ниже, чем Лосев. Дальше стало совсем легко: я понял, что занимаюсь интеллектуальной историей, меня интересует ритуал, система ценностей, которая сформировала шумерскую цивилизацию. По этой дороге я пошел дальше.
В 1983 году вышла книга И. С. Клочкова «Духовная культура Вавилонии». Это замечательная книга, но Клочков сводит духовную культуру к этике, к вопросам добра и зла. Делая это, он максимально сближает шумеро-аккадскую культуру с современной. Это хоть и важно, но ведет не по тому пути. Духовная культура начинается с ритуалов, а не с этики. Значит, мы должны понять, что такое ритуальная система ценностей, нужно углубляться в сами шумерские категории, нужно искать, что сами шумеры и вавилоняне об этом думали. Я стал искать такую работу, которая содержала бы категориальный аппарат на примере какой-нибудь другой культуры. И я нашел «Историю античной эстетики» А. Ф. Лосева. Мне было по дороге с Лосевым, но не как с философом, а как с культурологом, который изучает античные категории в границах языкового мира. Он не ставит вопрос о том, что такое идеи, он спрашивает, что такое категория эйдос и каково ее историческое развитие. В этом отношении я следовал за Лосевым, при этом сознавая, чем моя работа должна кардинально отличаться от его исследования. Он разрабатывал философские категории, то есть те, что лежат только в сфере сознания, а я занимаюсь категориями, которые существуют внутри ритуала, внутри системного ритуального поведения; следовательно, я должен копать на пласт ниже, чем Лосев. Дальше стало совсем легко: я понял, что занимаюсь интеллектуальной историей, меня интересует ритуал, система ценностей, которая сформировала шумерскую цивилизацию. По этой дороге я пошел дальше.
— Как вы выбирали научную тему? Почему именно календарь?
— В 1991 году Дьяконов прочитал мою дипломную работу «Заклинание как часть шумерского обряда освящения воды». Это его заинтересовало, потому что он сам только что издал книгу «Архаические мифы Востока и Запада», в которой пришел к мысли, что само формирование мифов имеет психофизиологическую природу. Так совпало, и он согласился стать научным руководителем моей диссертации, понимая, что я буду писать что-то связанное с религией. Хотя слово «религия» он не признавал, предпочитая термин «социальная психология». Однажды он предложил мне написать «максимально развернутый монолог» о теме диссертации, 15–20 машинописных страниц. И вот я описал все аспекты того, что хочу изучать: месопотамская религия, ритуалы и так далее. Дьяконов посмотрел и предложил создать систему причинно-следственных связей между пунктами моего текста и попытаться найти то звено, без которого не обойдутся все остальные. В его присутствии я стал зачеркивать пункты, зависящие от чего-либо. В конце концов у меня остался календарь.
Почему именно календарь? Я бы мог вам сказать, что методом исключения, но правда в том, что у меня с раннего детства есть специфическая интуиция календарного времени, синестезия времени: я чувствую, какое время года какой цвет имеет, какого цвета каждый месяц; один момент времени я четко отличаю от другого момента времени, вижу его семантику. Это врожденное ощущение ритма времени, что помогает мне не ошибаться в жизни, истории и политике. В детстве я получил мощную поддержку этого своего свойства. Когда мне было шесть лет, бабушка подарила мне книжку Виталия Бианки «Синичкин календарь». Из нее я понял очень важную вещь: у животных есть периоды, когда они меняют свое поведение. Точно так же и у людей. Мы никогда не спутаем Первое мая с Новым годом, наши жизненные установки и мысли сильно зависят от календаря. Так у меня связались «Синичкин календарь» и наши праздники. С тех пор я читал много календарей. В 70-е годы были отрывные календари, которые я зачитывал до дыр. Я знал, когда кто родился, когда какой праздник. И я не смогу спутать 1789 год с 1788 годом. У меня в голове очень рано возникла некая историческая сетка, в которой размечены мельчайшие моменты времени, календарного и исторического сознания. Я до сих пор с этим живу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я и в шумеро-аккадской литературе выделил календарный ритуал. Ведь календарь лежит в основе всех записанных ритуальных текстов. Нам неизвестны обычные человеческие свадебные обряды, а обряды священного брака известны. Значит, сами жители Древней Месопотамии наибольшее внимание уделяли именно календарным ритуалам, тому, что повторяется, на что можно ориентироваться, что формирует систему ценностей. Это так удачно совпало: моя природная склонность и особенности источников Месопотамии.
 Владимир Емельянов рядом со статуей шумерского правителя Гудеа в Лувре. Фото из личного архива Владимира Емельянова
Владимир Емельянов рядом со статуей шумерского правителя Гудеа в Лувре. Фото из личного архива Владимира Емельянова
А когда я стал писать свою диссертацию по Ниппурскому календарю, вдруг была опубликована новая группа текстов, которая раньше была известна только во фрагментах, — это комментарии самих вавилонян к праздникам и различным ритуальным аспектам. Тогда я понял, насколько мне сказочно повезло: если раньше в моем распоряжении были только упоминания календаря в литературных и хозяйственных текстах, то теперь появилась целая комментаторская литература. Из этого я и сделал кандидатскую диссертацию, придя в ней к важному выводу: система Ниппурского календаря существует, она состоит из четырех частей, это замкнутый повторяющийся цикл, имеющий свою семантику. Кстати, когда Дьяконов прочитал мою работу, он сделал удивительную вещь, которая по прошествии времени кажется каким-то чудом: вынул из диссертации четыре странички, которые были посвящены категории мэ и ее связи с весенними праздниками, и сказал: «А вот из этого вы сделаете докторскую». Так оно и вышло. Для меня было крайне важным вычленить главную религиозную шумерскую категорию — а это категория мэ — и ввести ее в контекст ритуалов. Я показал, что эти самые мэ, в отличие от идеи, логоса и т. п., связаны с весной, с тем, как каждый год возобновляется мир. Докторскую я написал уже без Дьяконова, он умер в 1999 году, но удивительно, что он смог предсказать по этим четырем страничкам тему моей будущей докторской диссертации.
Сам Дьяконов был преимущественно человеком письменного слова, он был уникальный корректор и редактор: мог на спор обнаружить в тексте десять ошибок на любой странице. Но устное слово не было его коньком. Еще он был чрезвычайно нетерпим к студенческим ошибкам, совершенно не умел объяснять. Например, он говорил: «Как вы этого не знаете, в немецкой статье 1954 года написано...» Да откуда мы, студенты третьего курса, знаем эту немецкую статью? Мы впервые об этом слышим. А он возмущается. С одной стороны, мы понимали, что планку он держит высоко, с другой стороны, это было странно. Потому он и не мог долгое время работать преподавателем. Он не любил ошибок, а когда ошибался сам, впадал в ступор. Это была такая нервная реакция, он совершенно не допускал, что где-то может ошибаться, на полном серьезе считал себя корифеем. Так оно и было, но дело в том, что все делают ошибки. Впрочем, он не был догматиком, его можно было переубедить, если докажешь, что он ошибся.
Когда же Дьяконов читал свои доклады, то делал это своеобразно: начинал читать, вдруг ему что-то не нравилось, он останавливался, зачеркивал, а потом продолжал читать уже тот вариант, который только что вписал. Очень не любил свои собственные тексты, постоянно их правил. Достаточно сказать, что свой перевод эпоса о Гильгамеше он издавал трижды, и это были весьма разные варианты. Такая сложная личность, человек крайне недовольный своей работой и работами всех других. Иногда все кончалось врачами. Он настолько серьезно относился к делу, что когда у него однажды не пошла работа над словарем афразийских языков, то уже понадобились медикаменты — у него была самая настоящая клиническая депрессия.
Якобсон был совершенно другой человек, он был Сократ: гораздо больше говорил, чем писал. Был непревзойденным, уникальным полемистом. По образованию он был юрист, к тому же спортсмен-фехтовальщик. Эта квалификация всегда сказывалась в его риторике: он необыкновенно точно отвечал на реплики оппонентов. У него был быстрый ассоциативный ум, и то, как он вел занятия по законам Хаммурапи, — отдельная история. Он не просто излагал материал, у него на ходу возникали идеи. Я понимал, что он сейчас мыслит при нас и это нужно фиксировать. Я горжусь тем, что на третьем курсе записывал за ним буквально все, что он говорил. Это были удивительные идеи, к которым западная наука пришла лет через двадцать после того, как они родились на нашем семинаре. Вдруг он неожиданно читал какое-то слово не так, как другие, видел там какое-то другое значение, а потом оказывалось, что его прочтение верно. А к тому, что он мало писал, у него было такое отношение: «Я же к этому пришел, придете и вы, зачем я это буду публиковать?»
Многие его открытия остались неизвестны за пределами небольшой комнатки, где проходили наши занятия. Спустя годы, когда я бывал на конгрессах на Западе, кто-нибудь читал доклад, я поднимал руку и говорил: «А вы знаете, профессор Якобсон к этому пришел еще в таком-то году». Более того, это опубликовано в «Кавказско-ближневосточном сборнике», изданном в Тбилиси. Коллеги разводили руками и говорили, что они не знают этого сборника, не читали. А я говорил, что приоритет в решении проблемы должен быть за профессором Якобсоном. Формально он был историком клинописного права, но на самом деле он был тончайший знаток истории культуры, в том числе духовной, и литературы. Но он никогда это не формализовал, все оставалось в разговорах.
— К вопросу об ошибках. Насколько сложно находить описки в древних текстах? Была ли кодификация нормы шумерского языка?
— Ошибок было невероятное количество, потому что не было никаких орфографических норм. Тексты записывались одновременно слогами и понятиями, это было ребусное письмо, и все зависело от квалификации писца. Писцы высшей квалификации знали множество идеограмм, они могли записать тексты, особенно религиозные тексты, иногда одними идеограммами. Это называется гетерографическое письмо, когда пишется по-шумерски, а читать надо по-аккадски. Читать трудно, но это демонстрировало то, что писцу доступно тайное знание. Остальные писали в основном слогами с минимумом идеограмм. Почерков было очень много и не было того, что мы назвали бы прописями. Если мы возьмем, например, так называемый старовавилонский курсив, то там три разных знака могут быть похожи на один. Читать и понимать такой текст довольно сложно. Часто случалось, что при переписывании старых текстов делались ошибки, потому что писец поздней эпохи уже не понимал, что писали древние, и делал удобные ему замены слов. И если исследователи не находят старые версии, то соответствующие места текста остаются темными.
 Табличка из медного сплава с изображением божеств (Мардук — крайний слева) и записью о даре храму бога Набу, 800–700 лет до н. э. Британский музей / CС BY-NC-SA 4.0
Табличка из медного сплава с изображением божеств (Мардук — крайний слева) и записью о даре храму бога Набу, 800–700 лет до н. э. Британский музей / CС BY-NC-SA 4.0
— Преподавался ли шумерский язык в те времена?
— Конечно, шумерский язык преподавался и в шумерских, и в вавилонских школах. Во-первых, до нас дошли грамматические таблицы для большинства форм шумерского языка в переводе на аккадский. Во-вторых, существуют так называемые силлабарии, которые и служат для нас источником информации как по шумерскому языку, так и по аккадскому. Таким образом, древняя филология существовала как минимум с начала II тысячелетия до н. э. На обоих языках учили читать и писать, учили большому количеству слов, выражений. Существовало преподавание специализированной лексики. Например, у нас есть словарь юридической терминологии.
— Грамотность была всеобщей?
— Четко очерченных сословий в Древней Месопотамии не было, ценз был имущественный. Поскольку обучение было платным, то оно было доступно состоятельным людям. Но бывали и такие времена, когда требовалось много учетчиков, бюрократов, и государство набирало как можно больше людей в школу, и тогда туда могли попасть дети бедняков, учащиеся за государственный счет. Но в основном дети обучались за счет своих родителей, учились и мальчики, и девочки. Гендерного неравенства не было.
— Вы говорили, что у вас все начиналось с Высоцкого, а какой у вас круг чтения за пределами востоковедения?
— Круг чтения у меня всегда был очень большой. Все началось с классики, поскольку моя мама работала в типографии и у нее был свободный доступ к собраниям сочинений, начиная с Пушкина и заканчивая Чеховым и Куприным. Я также много читал на английском языке по школьной программе: Шекспир, Бернс, Киплинг, Моэм, Лондон, Диккенс. Всю английскую классику я читал в одно время с русской. А потом, уже в старших классах, я познакомился с поэтом Виктором Кривулиным, который был репетитором по русскому языку и литературе и готовил людей на Восточный факультет. Через него для меня открылся целый пласт русской запрещенной литературы — Мандельштам, Ходасевич, Набоков, Гумилев. Он же давал мне формалистов: «Молодой Толстой» Эйхенбаума, Лермонтов с его комментариями. От него я узнал про Бахтина («Проблемы поэтики Достоевского»), Проппа и Веселовского. Своих школьных учителей я ни в чем подобном «обвинить» не могу, они были стойкие марксисты-ленинцы. Единственным исключением была наша учительница литературы И. Б. Гинзбург, которая устраивала внеклассные чтения и звала своих однокурсников по Герценовскому институту (ЛГПИ, а ныне РГПУ им. А. И. Герцена. — С. Ч.). У нас был поэтический вечер Александра Кушнера, несколько раз приходил Л. С. Дубшан и читал нам лекции о позднем Пастернаке, читал даже «Доктора Живаго». Это был 1985 год, какой «Доктор Живаго»? А у нас были занятия по нему, полуподпольно.
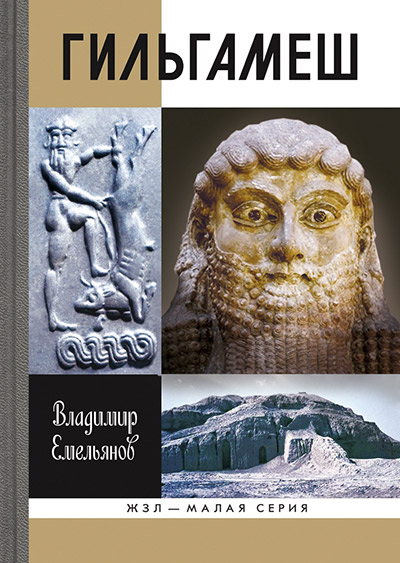 Если говорить не о художественной литературе, то с раннего детства я большой поклонник биографий. Это тоже как-то связано с чувством времени и с календарем. Я читал книги серий «Жизнь замечательных людей», «Научные биографии», биографические романы Андре Моруа. Когда у меня появилась возможность покупать книги, то я стал расставлять серию «ЖЗЛ» по хронологии. И вот теперь мне доставляет удовольствие, что вся эта серия начинается с моей книги о Гильгамеше. Раньше, видимо, нельзя поставить никого. Гильгамеш был первым в истории замечательным человеком.
Если говорить не о художественной литературе, то с раннего детства я большой поклонник биографий. Это тоже как-то связано с чувством времени и с календарем. Я читал книги серий «Жизнь замечательных людей», «Научные биографии», биографические романы Андре Моруа. Когда у меня появилась возможность покупать книги, то я стал расставлять серию «ЖЗЛ» по хронологии. И вот теперь мне доставляет удовольствие, что вся эта серия начинается с моей книги о Гильгамеше. Раньше, видимо, нельзя поставить никого. Гильгамеш был первым в истории замечательным человеком.
До моего поступления в университет я довольно много читал, а потом у меня не стало времени на постороннюю литературу. Мы учили арабский, иврит, шумерский, аккадский, английский, французский, немецкий, были спецкурсы. Я приходил к девяти часам на первую пару, до шести у нас продолжались занятия, а с шести до девяти мы сидели в библиотеке Восточного факультета и готовились к занятиям на следующий день. Не было же ксероксов, мы сидели и от руки переписывали восточные тексты для того, чтобы подготовиться. В результате я приходил домой где-то в районе половины одиннадцатого. Какая тут литература? Для меня в студенческие годы не существовало таких имен, как московские концептуалисты, Пригов, Рубинштейн, Вс. Некрасов — я этих людей тогда не знал. Но позже я лично с ними познакомился в 1994 году. Тогда Кривулин пригласил меня на вечер московских концептуалистов в Дом журналиста. Там еще был Тимур Кибиров. Это было прекрасное выступление, перемежающееся юмором, оно оставило заметный след в моей душе. Кривулин постоянно подкидывал новые имена: Иван Жданов, Аркадий Драгомощенко, Алексей Парщиков. Всех их я узнал, когда ушла страшная учебная нагрузка.
Дело еще в том, что я сам пишу стихи и перевожу. У меня есть несколько публикаций. И если стихи я пишу всю жизнь, то переводческие успехи связаны с именем А. А. Долининой. Анна Аркадьевна вела у нас семинар по художественному переводу. Так что моя литературная подготовка связана с двумя людьми — Кривулиным и Долининой. Никаких литературных кружков я не посещал.
Какое-то время я продолжал заниматься Высоцким, у меня выходили статьи, одна из которых опубликована в бостонском альманахе «Лебедь» — «Мифологема льда в поэзии Высоцкого». Я до сих пор интересуюсь высоцковедением, но теперь слушаю и смотрю Высоцкого скорее ради эстетического удовольствия. Зато я занимаюсь другим.
У меня написана книга «Древняя Месопотамия в русской литературе». Я собрал все тексты, от древнерусской литературы до литературы начала XXI века, на тему Ассирии, Вавилона, шумеров — их сюжетов и образов. Получился довольно увесистый том — 700 страниц, — где большую часть занимают исследования, меньшую — антология. Оказалось, что каждая эпоха русской истории использовала образы Ассирии и Вавилона для своих собственных идеологических целей. У меня получилась не столько филологическая книга, сколько культурологическая. Этой темой меня зарядил в 2002 году В. Н. Топоров. Мне очень помогли многие крупные филологи-русисты, они снабжали редкими материалами, например тем, что издавалось в русской эмиграции в Харбине, о чем я знать не мог. Моя работа продолжалась в общей сложности 14 лет, это был колоссальный опыт по трансисторическому соединению двух культур — месопотамской и русской, — которые в лицо никогда друг друга не видели, но которые вступили в диалог, сперва через разные культуры-посредники, а потом и непосредственно — когда русские поэты и писатели стали читать ассириологов. Книгу сейчас рецензируют двое моих коллег, и я очень надеюсь, что к концу года она выйдет.