От шрамов до детективов
Путеводитель по современной китайской литературе. Часть первая
В Москве проходит Х биеннале поэтов, почетный гость — Китай. В честь этого «Горький» попросил китаиста Юлию Дрейзис подготовить путеводитель по современной китайской литературе от смерти Мао и до наших дней. Публикуем его первую часть.
Главным толчком к рождению новой китайской литературы стала, безусловно, смерть Мао Цзэдуна в 1976 году. Последовавшие за ней открытие Китая внешнему миру и переход к более мягкой форме госконтроля помогли писателям переосмыслить болезненный опыт «культурной революции» (1966–1976). Однако с момента завершения «мрачного десятилетия» прошло уже больше сорока лет и в китайской литературе наметились и вызрели новые школы, направления и авторские поэтики, не связанные непосредственно с ее наследием. И все же «культурная революция» продолжает оставаться основной точкой отсчета для преображения пространства китайской литературы — ведь корни современного авангарда растут из подпольной литературы и самиздата времен Мао.
В годы «культурной революции» литература материкового Китая получила один из самых болезненных ударов за всю свою многотысячелетнюю историю. Интеллигенция подверглась массовым репрессиям и трудовому перевоспитанию, писать стало делом небезопасным. Признаваемая властью литература стала лишь формой политической пропаганды, а все остальное безжалостно отсекалось цензорами.
Легендарный китайский прозаик Мао Дунь писал, что в то время на полках остались «восемь пьес и один писатель», и действительно — издаваемых авторов можно было перечесть по пальцам. «Культурная революция» отбросила современную китайскую литературу на много лет назад. И дело даже не в том, что писатели не публиковались или подвергались гонениям — писать, в конце концов, можно и в стол или для самиздата, — а в том, что страна погрузилась в литературную изоляцию. Оказался перекрыт мощный поток переводной литературы, который в начале ХХ века захлестнул Китай, перевернул мировоззрение китайских писателей, подтолкнул к литературным реформам и подарил множество причудливых сочетаний и жанров. Запрет был наложен не только на всю западную литературу, но и на произведения советских авторов — отношения между двумя странами стремительно ухудшались. Рядовому китайскому читателю были доступны только тексты Хао Жаня, который был поднят на знамя «культурной революции» Великим Кормчим, и самого Мао Цзэдуна.
«Литература шрамов» и «литература дум о прошедшем»
После смерти Великого Кормчего буквально за полтора года сменился экономический и политический курс КНР, пришло время «политики открытости», а вместе с ней начался и новый виток развития современной китайской литературы — появление так называемой «литературы шрамов».
Интеллигенция стала постепенно возвращаться к своим обыденным занятиям — преподавание, писательство, журналистика, — но над ней непрерывно довлели кошмары прошлого. «Литература шрамов» — это исповедь униженного и оскорбленного поколения, которому просто необходимо было выговориться.
В 1977 году в журнале «Народная литература» вышел рассказ Лю Синьу «Классный руководитель». В центре повествования дети, чья психика искалечена годами «культурной революции» (детская жестокость в самом ее гипертрофированном варианте), и учитель, который старается им помочь. Первое время произведение натолкнулось на стену молчания: никто не знал, как оценивать столь открытую критику ушедшего режима. Позже разгорелась бурная дискуссия: критики считали, что произведение Лю Синьу аморально и безнравственно, а самого автора стоит отправить исправляться в деревню. И, возможно, так бы оно и случилось, если бы у писателя не нашлись влиятельные защитники, с чьей помощью он в итоге получил всенародное признание — пост главного редактора «Народной литературы» и Национальную премию за лучший рассказ года.
Первое литературное направление постмаоистского Китая окончательно сформировалось к 1978 году, а свое название — литература шрамов — получило после выхода рассказа Лу Синьхуа «Шрамы», который был опубликован в газете «Литературный вестник». В дальнейшем в этом же направлении работали такие авторы, как Лян Нань, Лу Сючжэнь, Ли Тао и другие.
Во всех произведениях в разных декорациях (город, деревня, школа) затрагиваются схожие проблемы, и во всех ставится центральный вопрос: как жить дальше? Многие критики сходятся на том, что эстетическая ценность данных произведений была невелика: обычный, почти примитивный сюжет, линия повествования обрывиста, а критика груба и неприкрыта. Но тому были свои причины: во-первых, острая необходимость выговориться (форма изложения в данном случае не играла ни малейшей роли) а во-вторых, снижение общего уровня эстетического восприятия в Китае.
Очень скоро «литературу шрамов» сменила «литература дум о прошедшем», которая продолжила традицию критики «культурной революции». Однако к концу 80-х тема практически полностью исчерпала себя — предыдущее поколение за десять лет высказало все, что наболело и о чем думалось, а молодое было занято уже совсем иными проблемами. Писатели континентального Китая все реже обращались к моментам из печального прошлого, а количество новых уникальных направлений начало постепенно расти.
В декабре 1984 года председатель КПК Ху Яобан призвал к «творческой свободе», тем самым положив конец очередной зачистке неугодных авторов — кампании против «духовного загрязнения». После четырех десятилетий идеологического контроля оттепель «новой эры» превратилась в полномасштабный ренессанс, в терминах китайского общественного дискурса тех лет — новый век Просвещения. В декабре 1986 года тысячи студентов вышли на улицы в Пекине, требуя политических реформ и протестуя против роста инфляции.
С открытием Китая внешнему миру в середине 80-х годов маоистская утопия отступила на задний план, уступив место иной утопии, основанной на благоговении перед иностранными идеями и технологиями. Среди бесчисленных теорий, с которыми «широкий китайский читатель» познакомился заново в течение «культурного бума» 80-х, наиболее влиятельными были философия Ницше, теория психоанализа Фрейда и экзистенциализм Сартра (в это время их активно переводили на китайский). Если эти теоретические построения воздействовали на образ мыслей и мировосприятие китайских писателей, то произведения западного модернизма и постмодернизма, такие, как «В поисках утраченного времени» Пруста, абсурдистские фантазии Кафки, «Улисс» Джойса и латиноамериканский «магический реализм», обогатили их новыми концептуальными, техническими и стилистическими открытиями. Творчество Томаса Элиота, Вирджинии Вулф, Нормана Мейлера, Дональда Бартельма также оказало влияние на развитие китайского авангарда. Разъятие времени и пространства, размывание границы между реальностью и воображаемым миром, «поток сознания», разорванный нарратив, инкорпорация в текст фольклорных элементов, увлечение сверхъестественным — все это было усвоено китайскими авторами в качестве мощных инструментов для отображения переосмысленной реальности.
«Литература поиска корней» и «авангард»
В итоге конец 80-х годов ознаменовался появлением целой когорты новых молодых авторов, которые перекроили лицо современной китайской литературы. Хотя писатели «новой волны» не создали своего литературного манифеста, начиная с 1987 года они активно взаимодействовали под эгидой журнала «Урожай». В нем были опубликованы первые рассказы Ма Юаня, Юй Хуа, Су Туна, Гэ Фэя и Сунь Ганьлу. С легкой руки пекинских критиков Чэнь Сяомина и Чжан Иу произведения этих авторов стали известны как «авангардная проза» — правда, термин «авангардная проза» использовался наравне с такими названиями, как «экспериментальная проза», «метапроза» и «проза новой волны».
С самого начала своего существования авангардное направление в Китае было самосознающим и авторефлектирующим; и авторы, и критики направления писали с четким осознанием международных трендов. Один из столпов авангарда, Юй Хуа в свое время составил сборник «Теплое путешествие — десять рассказов, оказавших на меня наибольшее влияние», в котором единственным произведением китайской литературы оказался рассказ Лу Синя «Кун Ицзи» (1919). На семинаре «Постмодернизм и современная китайская литература», проведенном в июле 1990 года при поддержке Института сравнительного литературоведения Пекинского университета, двое представителей авангарда, Юй Хуа и Гэ Фэй, признались в огромной любви к произведениям Барта, Борхеса и Маркеса.
После лекций американского теоретика марксизма и литературного критика Фредрика Джеймсона, прочитанных в Пекинском университете в 1987 году, взгляды интеллектуалов-авангардистов, слишком молодых, чтобы испытать на себе последствия маоистского террора или принимать участие в «культурной революции» в качестве хунвэйбинов, обратились к постмодернизму. Гегелианско-марксистская версия Джеймсона превратилась в мощное подспорье для их теоретических построений как часть общего тренда по переоценке путей модернизации и проблемы современности. Авангардистам был чужд гуманистический запал, питавший поколения китайских литераторов в их желании примерить на себя роль миссионера, наставника и пророка. Для них писательство обрело интерес само по себе, освободилось не только от рационализаторских установок, но и от эстетизации культурной самобытности.
На экспериментальную литературу 80-х часто навешивается не только критический ярлык «авангарда», но и «поиска корней». Однако такое разделение вводит в заблуждение, поскольку две эти «школы» ни в коем случае не являются взаимоисключающими и на самом деле частично пересекаются. Предтечи и одного, и другого направления — это «литература шрамов», «литература дум о прошедшем», «городская проза» и «туманная поэзия» самого начала 80-х. «Авангард» также пересекается с «неореализмом» и «неоисторизмом» — все это термины, придуманные на закате десятилетия.
В декабре 1984 года журнал «Шанхайская литература» и две организации из соседней провинции Чжэцзян софинансировали проведение конференции, объединившей писателей, редакторов и литературоведов из Пекина, Шанхая, провинций Хунань и Чжэцзян. Темой конференции стала «Литература новой эры: ретроспектива и прогнозы». Эссе, изданные в сборнике конференции, образовали ядро эстетики литературы «поиска корней».
 Поиск корней выражался в воссоздании региональной или этнической культуры — как в серии произведений Цзя Пинва о родном Шанчжоу, рассказах Ли Ханъюя о реке Гэчуань, текстах Урелту об эвенках Внутренней Монголии. В романе Хань Шаогуна «Папапа» (1985) единственным свидетелем упадка в плену у насилия и суеверий становится дурачок Бинцзай, способный произнести только два слова («папа» и «твою мать»). Он как бы воплощает коллективное бессознательное китайцев: тупоумный, уродливый Бинцзай в то же время наделен некой мистической силой и мощным инстинктом выживания.
Поиск корней выражался в воссоздании региональной или этнической культуры — как в серии произведений Цзя Пинва о родном Шанчжоу, рассказах Ли Ханъюя о реке Гэчуань, текстах Урелту об эвенках Внутренней Монголии. В романе Хань Шаогуна «Папапа» (1985) единственным свидетелем упадка в плену у насилия и суеверий становится дурачок Бинцзай, способный произнести только два слова («папа» и «твою мать»). Он как бы воплощает коллективное бессознательное китайцев: тупоумный, уродливый Бинцзай в то же время наделен некой мистической силой и мощным инстинктом выживания.
Открытие или восстановление местной истории и маргинальных культур становится характерной чертой направления. Оно не только обеспечивает перспективу за пределами официальной идеологии и господствующей (ханьской) культуры, но также становится источником возобновления творческой энергии. На авансцену выходят представители китайских нацменьшинств — мусульмане северо-запада, тибетцы, хунаньские мяо.
«Проза новой волны»
На волне интереса ко всему экзотическому и внесистемному в литературе появляется стремление избавиться от оков рациональности. Отрицание повседневного опыта и обычной жизни — один из краеугольных камней в творческих установках китайского авангарда — приводит к формированию воображаемой, но более «истинной» реальности, где царят совершенно другие законы. Объектом внимания избирается ирреальное: помутнение рассудка, сны, иллюзии, галлюцинации, те сферы, что не подвластны повседневной логике.
В кошмарном мире писательницы Цань Сюэ повествование движется по порочному кругу, где правит бал дикая образность шизофрении. Мертвые, часто расчлененные, тела людей и животных обильно рассеяны по пространству ее рассказов. Параноидальным героям постоянно что-то чудится, мерещится, им слышатся неясные звуки, порождающие чувство безотчетного страха. Насилие отделено от истории и превращено в чисто ментальный образ, часть галлюцинации, замещающей реальность, — так оно обретает автономное существование безо всяких причин, умножает до бесконечности свои манифестации, бесконечно дублирует себя в новом времени.
Характерная для постмодерна установка на децентрализацию дискурса порождает постоянное перетасовывание элементов традиционной культуры, которые становятся фрагментами, сведенными к минимуму смысла и формы. Традиционные формы искусства воспринимаются как материал в деле строительства нового культурного текста: порой в форме цитации, иногда — парафраза, иногда — актуализации архаики.
В китайском авангарде гротескное обыгрывание традиционных литературных форм ярче всего у раннего Юй Хуа. Например, рассказ «Кровавые цветы сливы» (1989) обыгрывает традиции прозы в жанре уся, которая описывает похождения мастеров боевых искусств в условном мире «зеленых лесов», где правит кодекс абсолютной чести и милосердия. В рассказе «Классическая любовь» (1998) травестируются нормы так называемой прозы о «талантах и красавицах», т. е. любовных новелл, описывающих взаимоотношения одаренного студента и неизменно поддерживающей его спутницы жизни (модель, заданная еще в классической новелле Юань Чжэня «Повесть об Инъин»). Счастливый финал, предполагающий соединение пары, подменяется развязкой истории о сверхъестественном. Центральное место в ниспровержении канона отводится откровенному и хладнокровному описанию каннибализма, которое не чуждо китайской литературной традиции (и реальности времен «культурной революции») как таковой, но вводится в совершенной чуждый контекст прозы о «талантах и красавицах». В послесловии к сборнику переводов Юй Хуа «Прошлое и наказания» переводчик Эндрю Джонс отмечает, что «жуткие сцены каннибализма переработаны из литературного анекдота танского времени (который впоследствии превратился в известную минскую новеллу «Женщина, исполненная почтения к родителям, продает себя мяснику на янчжоуском рынке»)». Джонс отмечает, что Юй Хуа представляет свою историю, лишенную морального императива, который запускал в действие «механику» оригинальной новеллы.
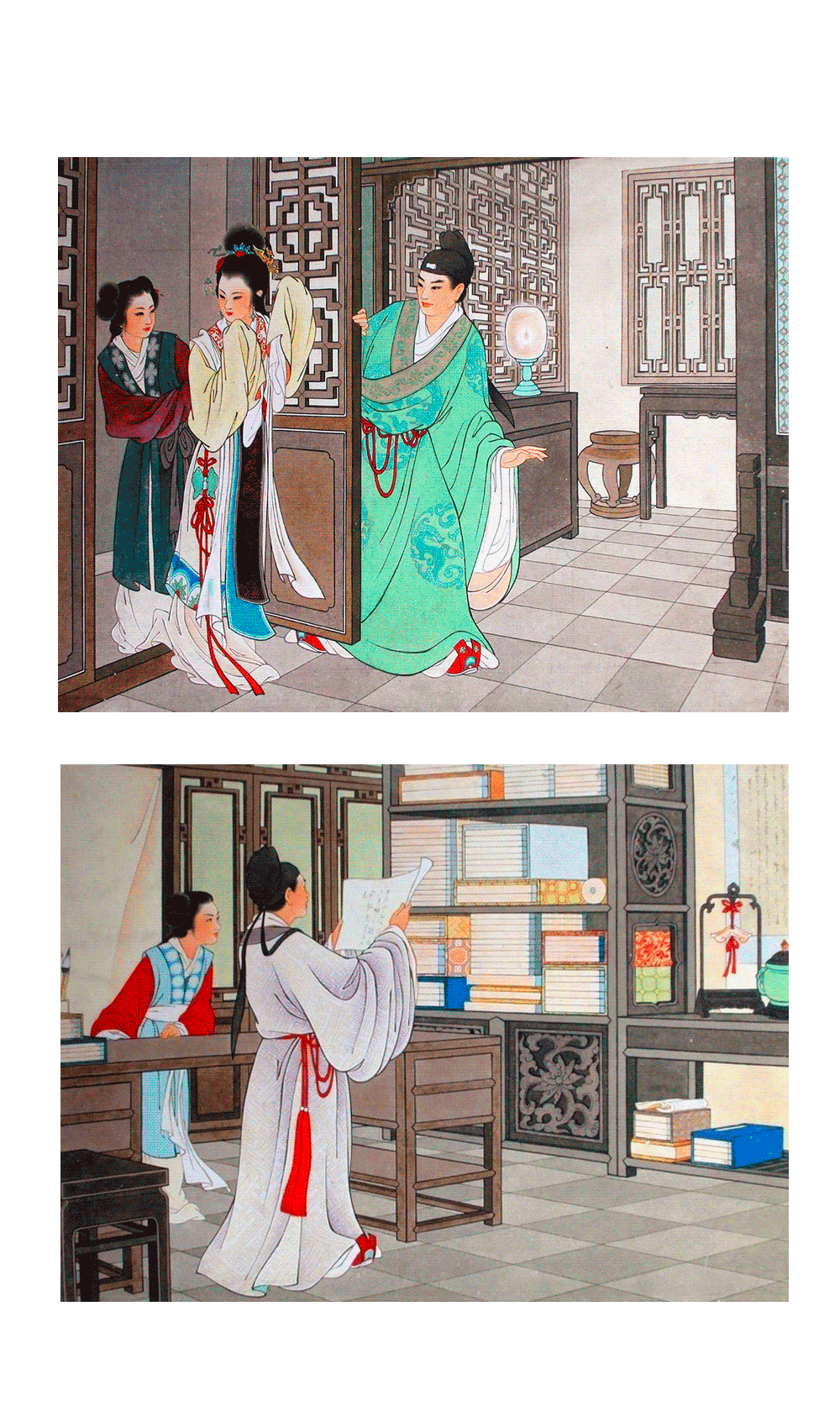
Рисунки, изображающие сцены из пьесы «История западного крыла», основанной на повести «История Инъин»
Фото: nipic.com
Оба рассказа полностью отвечают формальным требованиям жанра, но выключены из системы необходимого кода, который доносит моральный посыл истории. Пастиш играет заметную роль и, например, у Мо Яня («Страна вина», 1992; «Устал рождаться и умирать», 2006). Декларативно отвергающий традицию авангард на самом деле оказывается насквозь цитатен и построен на обращении к культурной памяти. За счет этого возникает шокирующий эффект узнавания-неприятия, столь раздражающий наблюдателя. Он распространяется не только на формальную, но и на содержательную сторону. Традиционная этика подвергается бесконечному высмеиванию и травестированию. Это мир, в котором молодость и физически, и морально подчинена старости и смерти.
Разъятию в мире китайского авангарда подлежат не только жанровые схемы, язык и образная система предшествующей литературной традиции, но и физические тела героев. В творчестве китайских авангардистов герои поглощены земными страстями, захвачены сексуальным желанием и патологическими аффектами и живут в плену собственной телесности. Жертвой необузданных первобытных желаний в мире китайского авангарда почти всегда становится женщина. Она умирает насильственной смертью, будучи поглощенной мужским желанием. Особенно очевидно это у Гэ Фэя, в произведениях которого она или подвергается насилию, как в рассказе «Оргáн» (1989), или лишается внутренних органов за измену, как в «Заблудившейся лодке» (1987), или гибнет от удушения и затем оказывается разъятой на части, как в произведении «Вспоминая господина У-ю» (1986).
Открытое изображение сексуального желания, насилия и жестокости — бунт против эстетических принципов реализма и модернизма. «Катастрофа», свидетелем которой становятся герои, предстает не просто как грубое нарушение социальных норм, но как акт абсолютного насилия, лишенный какой-либо сознательной артикуляции. Одна из наиболее насыщенных насилием работ — повесть Юй Хуа «1986 год», написанная через десять лет после завершения «культурной революции». В повести покой маленького провинциального городка внезапно нарушается появлением на его улицах сумасшедшего, которому доставляет изощренное удовольствие истязать себя самым жестоким образом на глазах у горожан. Описания города от лица сумасшедшего, увлеченно осваивающего новые и новые виды «казней», перемежаются рассказом о семье женщины, чей муж, школьный учитель, увлекавшийся изучением традиционных пыток и наказаний, пропал без вести в «культурную революцию», после того как однажды вечером его увели с собой хунвэйбины. Несмотря на посыл повести, изображающей связь между человеческой жестокостью и цивилизацией как данность, повествование о возвращении потаенного обнажает иной источник насилия — репрессивную власть упорядоченной повседневности. Общество, пережившее катастрофу, пытается заменить свои воспоминания и революционную страсть, обретая удовлетворение в потребительстве и масскульте (представленных в лице сигарет «Мальборо», кофе «Нестле» и мелодрам тайваньской писательницы Цюн Яо, которая была весьма популярна в 80-е годы).
«Новая историческая проза»
Деконструкция классической традиции и этики, на почве которых возрос кошмар коллективного прошлого Китая 1960–1970-х, выливается в одержимость разоблачением лжи истории, в глубокое разочарование в идеях поступательного хода, прогресса и просвещения. Одержимость китайских писателей историей и тесная связь литературы и историографии определяют центральное место истории и скромный статус художественной литературы в китайской интеллектуальной и литературной иерархии. Этот статус был подвергнут пересмотру только в начале XX века под влиянием дидактического импульса исполнить общественный долг при помощи литературы. Позднейшая маоистская политизация литературы также совершалась во имя «истории»: партия, вооруженная идеологией, представлявшей, по ее заверениям, направление исторического развития, уравняла подчинение собственной политике с высокой миссией откликнуться на «зов истории». Запущенная в годы вскоре после смерти Мао Цзэдуна, программа по «освобождению мысли» была в своем роде попыткой переписать и реинтерпретировать маоистскую историю. 1980-е годы с их кризисом гуманистических установок, упадком идеализма, утратой уверенности в ясности «исторического курса» и исторической телеологии и радостным приятием консьюмеризма обратили внимание многих интеллектуалов в сторону понимания истории в духе Жака Деррида (мир как текст; история как писание, а не представление).
Отсюда создание новой исторической прозы в форме «альтернативной истории» и историографического метанарратива. Так, например, в «альтернативных историях» Гэ Фэя, Мо Яня, Лю Хэна рассказ о революционных героях и их подвигах превращается в развенчание революционного мифа. Герои часто выглядят эгоистичными, мстительными людьми с небезупречной моралью, которые борются за личные интересы и обладание властью. Так осуществляется деконструкция ключевых концептов революционной истории (в ее варианте, порожденном маоистским дискурсом): классовой борьбы, «типических характеров в типических обстоятельствах» и линейного прогресса истории, ведущего от победы к победе.
Основной задачей становится использование техник, позволяющих нивелировать эффект правдивости традиционного повествования в духе реализма. Авангардная проза подвергает сомнению не только уникальную способность историографии восстанавливать историческую правду, но и ее статус дисциплины, занятой беспристрастной фиксацией исторической «истины». В китайском авангарде происходит сдвиг в сторону повествования, которое подчеркивает различия, идиосинкразические моменты в конструировании относительного пространства. Отсюда проистекает увлечение декадансными образами болезни, смерти и разрушения. Дегенерация и регресс — вот сущность многих историй прошлого, описывающих падение старых патриархальных семейств, будь то во «Врагах» Гэ Фэя, «Бегстве в 1934 году» (1987), «Опийной семье» (1988) Су Туна. История является в произведениях китайского авангарда в форме разложения и угасания.
«Ужас истории» (которая в XX веке оказалась по количеству жертв ужаснее, чем когда-либо прежде) заставил западного человека переоценить примитивное сознание с его атемпоральностью и архетипичностью, с его завидной стабильностью, противостоящей зыбкому, хрупкому современному миру. В Китае, пережившем тяжелые годы раздора, войны, голода и социальных беспорядков, обращение к примитиву выглядит столь же оправданным, однако эта тенденция становится недвусмысленно обозначенной только с конца 80-х, именно в творчестве китайских авангардистов.

Кадр из фильма «Красный гаолян», 1987 год
Фото: allofcinema.com
Ностальгия по примитивному проявляется в представлении истории как серии бесконечно повторяющихся циклов. Наиболее очевидна она у Мо Яня, например, в романе «Клан красного гаоляна» (1987). Роман представляет собой попытку воссоздать примитивный дух дионисийства, а скорее, «привить» его традиционной китайской культуре. Повествование в нем движется по двум линиям: легендарной истории любви деда и бабки рассказчика и отважного противостояния народного ополчения японским захватчикам в годы Второй мировой войны. Раблезианский по духу мир Мо Яня наполнен образами телесного обилия (название одного из романов писателя — «Большая грудь, широкий зад» (1996)): эротикой, скатологией и другими откровенными демонстрациями жизни материального.
Параллелью осмыслению примитива в китайской литературе служит его подача в кино режиссеров «пятого поколения». В экранизации «Клана красного гаоляна» Мо Яня («Красный гаолян», 1987) режиссер Чжан Имоу использует насыщенные, интенсивные цвета, чтобы подчеркнуть, высветить первобытную жизненную силу героев. Обращение к корням национальной культуры, игра с образами-архетипами, увлечение экзотикой составляет интегральный элемент таких фильмов, как «Желтая земля» (1984), «Царь детей» (1987), «Иди и пой» (1991), «Соблазнительница-луна» (1996) Чэнь Кайгэ, «Цзюйдоу» (1990) Чжан Имоу, «Конокрад» (1985) Тянь Чжуанчжуана, «Старый колодец» (1986) У Тяньмина.
Попытка конструирования нового субъекта, освобожденного низвержением канона и традиционной этики от социополитической, исторической и порой персональной идентичности, принимает у авторов китайской литературы конца 80-х — начала 90-х разные формы: построение химерического художественного пространства, неотличимого от сна или обманчивого видения (Сунь Ганьлу и Гэ Фэй); создание параноидального мира болезненной галлюцинации (Цань Сюэ); побег в область фантастического и удивительного (Ма Юань); поиски «отдушины» индивидуальной истории (Су Тун) и, наконец, погружение в бездну насилия (Юй Хуа).