От романтизма к классицизму и обратно
Дмитрий Ивинский — о появлении в России литературной критики
Третья лекция из переделкинского цикла, посвященного истории литературной критики, была прочитана Дмитрием Ивинским. Он рассказал о том, как в России в конце XVIII — начале XIX веков сформировались литературный язык и литературные институты — и в том числе интересующая нас критика. Обратите внимание:
Божественное и человеческое
Разумеется, литературная критика не могла возникнуть раньше литературы, а представление о последней, более-менее соответствующее современному, закрепилось в русском литературном сознании только в 1770-е годы. Повсеместное же распространение этого понятия началось еще позднее, в царствование Александра I. Для того чтобы показать, в какую систему включалось понятие литературной критики, я хочу обратиться к двум достаточно показательным источникам. Первый из них — небольшая книжка протоиерея Иоанна Иоанновича Иванова «Опыт теории словесных наук», изданная в 1832 году. Иванов пишет, что ключевым понятием для тех, кто занимается литературной критикой, является вкус. «Употребление вкуса или приложение его к изящным произведениям, — вкус в теснейшем разуме практический есть критика». Таким образом, Иванов ставит знак равенства между вкусом и критикой, которой дает такое определение:
«Критика есть суд, производимый по закону, основанному на существе вещи, над умственным творением, с тем намерением, чтобы истинные красоты отличить от ложных, а через сие познать свойство писателя и утвердить начало правил для изящных произведений».
Литературную критику он делит на два вида:
«По различию писаний Божественных и человеческих истинная критика есть двоякая: 1) занимающаяся божественными писаниями называется священною критикою и принадлежит к богословскому учению, 2) занимающаяся сочинениями человеческими называется просто критикою и входит в состав наук словесных».
Второй вид критики Иванов называет рецензией, в которой «замечаешь отношение мыслей, в каком либо произведении заключающихся, к законам истины и нравственности...» Эту критику он делит на древнейшую и новейшую. Древнейшая критика — это филология. Новейшая критика — попытка связать актуальное представление о вкусе с текстом и вынести некоторые суждения о том, каким образом в произведении воплощены законы истинного вкуса. Далее Иванов пишет:
«Но та и другая критика должны рассмотреть: 1) что содержится в сочинении или сущность сочинения (materiam), то есть мысли; 2) как изложена сия материя или внешний образ сочинения (formam) — слова; 3) от чего и для чего такое внутреннее и внешнее свойство или начало слов и мыслей (principium) — дух писателя».
Второй источник, о котором я хотел бы упомянуть, представляет совершенно другую культурную среду. Это одно из первых сочинений Дмитрия Алексеевича Милютина — того самого Милютина, который станет военным министром при Александре II и прославится своими мемуарами. В 1831 году, когда ему было всего 15 лет, Милютин издал книгу «Опыт литературного словаря», где разделил словесность на теоретическую и практическую. Первой учит чтение, анализ текста и история литературы, второй — грамматика, риторика и поэтика. Сверх того, к риторике прилагается общая дисциплина — эстетика. Это и есть та система, из которой исходят литераторы пушкинской эпохи. То, о чем пишет юный Милютин, не противоречит взглядам Иванова, построенная им схема проста, понятна и отражает некий высший уровень школьного образования.
Нить Ариадны
В 1830 году Александр Сергеевич Пушкин создает небольшой набросок «О критике», где говорит:
«Критика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусства и литературы.
Она основана: на совершенном знании правил...» Это, подчеркнем, пишет «романтик», который как будто по определению не приемлет никаких правил. Продолжим чтение:
«...коими руководствуется художник и писатель в своем произведении».
Замечу, что еще в 1825 году, рассуждая о пьесе «Горе от ума», Пушкин пишет Бестужеву: «Художника нужно судить по его же законам». Возвращаемся к пушкинскому тексту:
«на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений [в области литературы. — Д. И.].
Не говорю о беспристрастии — кто в критике руководствуется чем бы то ни было, кроме чистой любви к искусству, тот уже нисходит в толпу, рабски управляемую низкими корыстными побуждениями. Где нет любви к искусству, там нет и критики».
Эта цитата — своего рода краткий конспект того, что позднее назовут эстетикой чистого искусства. На первый план здесь выходит любовь к искусству, затем присоединяется общепонятная тема противостояния поэта и толпы, в которую включается критик. Далее нам напоминают о знаточестве и возвращают к изучению образцов.
Своего рода комментарием к этому тексту может служить статья Василия Андреевича Жуковского «О критике», которая была напечатана в журнале «Вестник Европы» гораздо раньше, в 1809 году. «Напрасно приписываете вы критику неприличное намерение быть законодателем мнений», — пишет Жуковский. Он подчеркивает, что при оценке произведений важно быть «учтивым»: обращаться к людям своего круга, но не поучать их. «Предлагайте мысли свои, не думая, чтобы они были неопровержимы, — продолжает Жуковский. — Правда, что каждый читатель есть сам по себе критик, ибо он думает и судит о том, что читает; но следует ли из того, чтобы критика была бесполезна?» Далее он говорит о двух видах читателей:
«...одни, закрывая прочтенную ими книгу, остаются с темным и весьма беспорядочным о ней понятием <...>; другие читают, мыслят, чувствуют, замечают прекрасное, видят погрешности — и в голове их остается порядочное, полное понятие о том, что они читали. <...> Для первых благоразумная критика полезна бывает тем, что она может служить Ариадниною нитию их рассудку и чувству. <...> Другим доставляет она случай сравнивать собственные понятия с чужими, более или менее основательными».
Вольтер и я
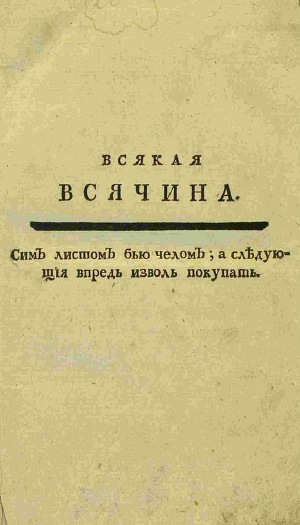 В 1769 году с легкой руки императрицы Екатерины II в России появилась литературная журналистика, это была своего рода революция в мире русской литературы. Начал выходить журнал императрицы «Всякая всячина», который она называла «прабабкою русских журналов». Позже на свет появились многочисленные «внуки»: журналы «И то и се», «Ни то ни се», издававшиеся Николаем Ивановичем Новиковым «Трутень», «Живописец», «Кошелек» «Пустомеля» и так далее. Однако критика обсуждалась в них крайне редко. Из «Всякой всячины» (№ 15, 1769):
В 1769 году с легкой руки императрицы Екатерины II в России появилась литературная журналистика, это была своего рода революция в мире русской литературы. Начал выходить журнал императрицы «Всякая всячина», который она называла «прабабкою русских журналов». Позже на свет появились многочисленные «внуки»: журналы «И то и се», «Ни то ни се», издававшиеся Николаем Ивановичем Новиковым «Трутень», «Живописец», «Кошелек» «Пустомеля» и так далее. Однако критика обсуждалась в них крайне редко. Из «Всякой всячины» (№ 15, 1769):
«В теперешнем положении наук у нас мы думаем, что гораздо нужнее поощрение сочинителям, переводчикам и молодым людям, кои посвящают себя наукам, нежели строгая критика».
Обратите внимание: понятие критики здесь употребляется в широком значении и распространяется не только на литературу, но и на науку вообще. Далее:
«...несколько излишних ... [предлогов]; одно или два выражения, к коим уши не привыкли и кои суть следствия перевода, еще не довольны для доказательства, что целый перевод не соответствует желанию трудящегося, чтоб удовольствовать другими глазами смотрящую на представление публику. Мелкие пороки находятся в совершеннейших сочинениях. Но вообще чем более будет переводов и сочинений, тем более будем иметь надежды получить со временем лучшие, а быть может, и совершеннейшие. Башни не строят, начиная сверху, но напротив того, снизу».
Вот так ставил вопрос о критике журнал августейшей писательницы, которая была прекрасно осведомлена о том, что происходит в литературном мире, и могла мягко воздействовать на литературное пространство, направляя усилия журналистов, литераторов и переводчиков.
Еще одна литературная революция состоялась в 1783 году, когда под бдительным оком государыни начал меняться стиль придворной поэзии. Ломоносов объявляется единственным и неповторимым классиком и отодвигается в сторону. На первый план выходит автор оды «Фелица» Гаврила Романович Державин. Результаты этой литературной революции закрепляются на страницах журнала «Собеседник любителей российского слова...», где публикуются посвященные Державину панегирические статьи. Надо сказать, что сам Державин вел себя очень скромно, не кичился славой, понимая, что она может оказаться скоротечной.
Таким образом, журнальная литературная критика в то время имела довольно мало шансов на подлинную самостоятельность. Однако она понемногу пробивала себе дорогу. Здесь стоит учитывать темперамент некоторых наших авторов. Например, Сумароков заявлял, что во всей Европе существует только два порядочных трагика — Вольтер и он сам. Более того, он был уверен, что обладает достаточными сведениями для того, чтобы указать своим современникам правильный путь в поэзии и искренне удивлялся, когда видел, что те отворачиваются от него. Это заставляло Сумарокова писать негодующие статьи, которые в значительной мере обусловили дальнейшую историю русской литературной критики.
Стихотворство камчадалов
Конечно, первоначально речь могла идти только о специальной академической филологической критике. Именно ее культивировал, например, Василий Кириллович Тредиаковский, который составил полное руководство по стихосложению, вышедшее в 1735 году — «Новый краткий способ сложения российских стихов с определениями до того надлежащих знаний». В 1752 году оно было переработано до неузнаваемости и до конца столетия оставалось важнейшим источником для тех, кто хотел приобрести знания в области русского стихосложения.
С Тредиаковским пытался спорить Антиох Дмитриевич Кантемир в «Письме Харитона Макентина о сложении стихов русских» (Харитон Макентин — анаграмма имени и фамилии поэта). Кантемир отстаивает преимущество силлабики перед силлаботоникой, которую стремится утвердить в русской литературе его оппонент. В этом же ряду оказывается Михаил Васильевич Ломоносов, который в 1739 году публикует «Письмо о правилах российского стихотворства», где говорит о развитии реформы стихосложения. Позже он обратится к проблеме церковно-славянского языкового наследия в статье «Предисловие о пользе книг церковных в церковном языке» (1758).
Тредиаковский создает трактаты, посвященные оде и эпической поэме, например «Предъизъяснение об ироической пииме», которое послужило предисловием к «Телемахиде». О поэзии как таковой он пишет в статьях «Мнение о начале поэзии и стихов вообще» и «Письмо к приятелю о нынешней пользе гражданству от поэзии», причем вторая несколько приближается к свободной манере критики XIX века. Здесь же следует упомянуть «Речь... о чистоте российского языка», произнесенную Тредиаковским в Императорской академии наук.
Новая русская литература начинается с осуществленного Тредиаковским перевода романа Поля Тальмана «Езда в остров любви». Это был первый аллегорический роман на русском языке, который обусловил многое в русской литературе: от романов Хераскова «Кадм и Гармония» и «Полидор» до «Писем русского путешественника» Карамзина. Тредиаковский написал предисловие к роману, где сделал попытку разделить церковнославянский и русский языки светской литературы. Впоследствии русские поэты и литературные критики на протяжении столетия будут спорить о том, как соотносятся эти две сферы, каковы пределы их взаимодействия, можно ли говорить о едином российско-словенском или словено-российском языке и так далее. Но этого Тредиаковскому показалось мало. В переводе он испытывает выразительные возможности поэзии и прозы: роман содержит множество стихотворных вставок. Наконец, он фиксирует возможность русско-французского двуязычия: в приложении к основному тексту переведенного им романа печатаются стихи на русском и французском языках.
Александр Петрович Сумароков, о котором мы уже напомнили, — еще один великий поэт XVIII века, создавший первые образцы литературной критики в ее относительно современном понимании. Это «Критика на оду», «Ответ на критику», «К несмысленным рифмотворцам», «О стихосложении», «К типографским наборщикам». Сюда же можно отнести странную статью «О стихотворстве камчадалов», из которой вытекала мысль о повсеместном распространении поэтического начала.
Эпоха трактатов не закончилась с рождением журнальной критики. Еще Гаврила Романович Державин на старости лет счел необходимым порадовать современников трактатом чудовищного объема «Рассуждение о лирической поэзии или об оде», который был частично напечатан в журнале «Чтения в Беседе любителей русского слова...».
Помимо академической и журнальной критики, существовали ее стихотворные формы, в рамках которых обсуждались многие из тех вопросов, которые через несколько десятилетий станут достоянием русской критической мысли. Это, например, «Эпистола о русском языке» и «Эпистола о стихотворстве» Сумарокова (потом они будут объединены в «Наставлении хотящим быти писателями») или «Лиро-дидактическое послание» Николая Петровича Николева, после прочтения которого Карамзин откровенно писал своему приятелю Ивану Ивановичу Дмитриеву, что не может спать, так как от многословия Николева у него разболелась голова.
Конечно, русские литераторы обращались к оригиналам и переводам «Послания к Пизонам» Горация, «Науки о поэзии» Никола Буало и так далее. Труды немецкого философа и писателя Иоганна Готшеда не переводились, но, скажем, Сумароков изучал их самым тщательным образом. Знаменитый «Курс изящной словесности» аббата Батё читался всеми, в т. ч. мало читавшим на иностранных языках Державиным.
Человеки — существа чувствительные
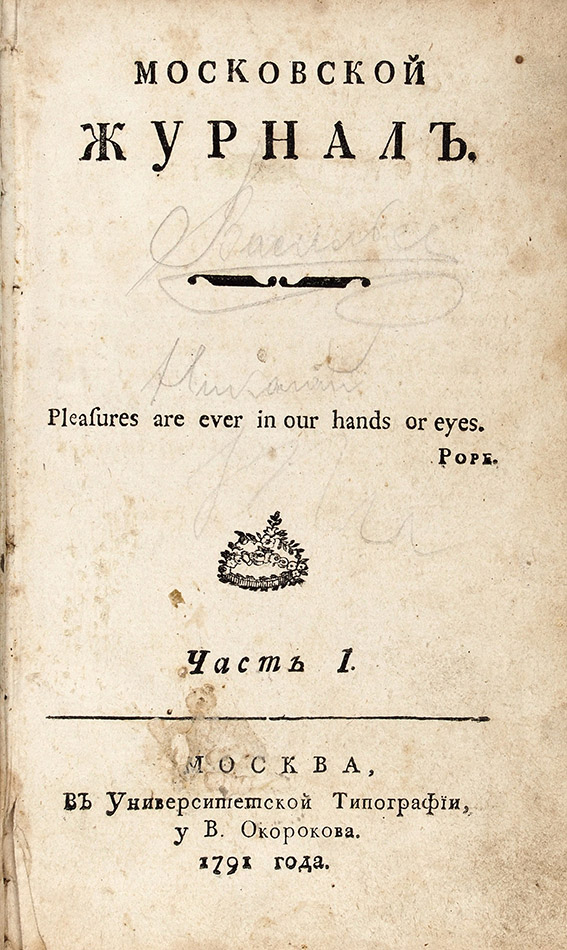 В 1790-х годах возникает литературная критика современного типа. Считается, что своим появлением она обязана Николаю Михайловичу Карамзину, который после возвращения из заграничной поездки начал издавать «Московский журнал», где печатал свои рецензии на отдельные произведения. Эти сложные, многослойные тексты были рассчитаны на искушенного читателя. Из рецензии Карамзина на роман Хераскова «Кадм и Гармония»:
В 1790-х годах возникает литературная критика современного типа. Считается, что своим появлением она обязана Николаю Михайловичу Карамзину, который после возвращения из заграничной поездки начал издавать «Московский журнал», где печатал свои рецензии на отдельные произведения. Эти сложные, многослойные тексты были рассчитаны на искушенного читателя. Из рецензии Карамзина на роман Хераскова «Кадм и Гармония»:
«Почтенный автор в предисловии своем говорит, что Кадм его есть не поэма, а простая повесть; но когда повесть есть не история, а вымысел, то она, кажется, есть поэма — эпическая или нет, но все поэма — стихами или прозою писанная, но все поэма, которая по общепринятому понятию на других языках означает всякое творение вообразительной силы. Таким образом комедия, роман есть поэма».
Возможно, это напомнило вам подзаголовок к «Мертвым душам» Гоголя: «Поэма». Какой именно традиции здесь следовал писатель, точно неизвестно. Однако мы знаем, что единственной печатной книгой, которая была в доме родителей Николая Васильевича, был роман Хераскова «Кадм и Гармония».
Что же имел в виду Карамзин, говоря об очень условной семантической смежности понятий эпос, повесть и поэма? Отказ от признания иерархии поэзии и прозы соответствует логике самого Карамзина. Если в качестве базового выдвигается разграничение истории и вымысла, то противопоставление поэзии и прозы на этом смысловом уровне неизбежно предстает как второстепенное. Все вымысел. А то, что вымысел, — это поэзия.
Но об этом может догадаться любой сообразительный читатель. Знатоки, в особенности часть московской аудитории Карамзина, составляющая розенкрейцерский кружок, воспринимали этот текст существенно иначе, в духе хорошо им известной книги Сен-Мартена «О заблуждениях и истине». Цитирую по изданию Новикова:
«Сии произведения, какого роду они ни были, мы можем разделить на два отделения, под которыми все прочие будут состоять, потому что во всем, что существует, есть или умное, или чувственное, и все, что человек может произвести, имеет целию которую-нибудь из сих двух частей. В самом деле, все, что люди ежедневно выдумывают и производят в сем роде, состоит в том, чтоб научить или тронуть, рассуждать или возбуждать чувствительность. <...>
К первому отделению отнесем все творения рассудка. <...>
Ко второму отделению отнесем все то, что имеет целию сделать впечатления в сердце человеческом, какого роду они ни были. <...>
Хотя на два отделения расположил и словесные произведения умных способностей человека, не забываю однако, что они имеют многие ветви и разделения. <...>
Не вступая в исчисление их, ниже в рассматривание каждой порознь, мы можем взять в рассуждение главную токмо ветвь... математику или поэзию. <...>
Язык [поэзии] не зависит от тех общеупотребительных правил, в которых у разных народов условились люди заключать свои мысли. Кому известно, что сие есть следствие ослепления их, что они вздумали сим средством умножить красоты, а вместо того отяготили себя трудом, и что сие чрезмерное наблюдение правил, которым порабощают нас в намерении тронуть телесную нашу чувствительность, тем паче умаляет истинную нашу чувствительность. <...>»
Таким образом, Карамзин (и Сен-Мартен) сформулировали принцип, который не отменяет правила, но отодвигает их в сторону как нечто менее значимое.
Однако Карамзин исходил не только из книги Сен-Мартена. Вернемся к понятию «вообразительной силы». В журнале «Магазин Свободно-Каменьщической», который издавал один из теоретиков русского розенкрейцерства князь Иван Владимирович Лопухин в 1784 г., говорилось:
«Человеки суть существа чувствительные, допускающие управлять собою посредством живых впечатлений вообразительной силы, лучше, нежели посредством хладных заключений и рассудка».
Итак, если вы хотите воздействовать на человека, то рассудок вам не лучший помощник, а лучшим будет оная вообразительная сила, которая находится за пределами рационального.
Рассуждения о русском слове
В 1803 году Александр Семенович Шишков издает знаменитый трактат, посвященный церковнославянскому языку — «Рассуждения о старом и новом слове российского языка». Вокруг трактата разгорается нешуточная полемика, в которой участвуют журналисты и литературные критики. Этот спор обуславливает многое в русской литературной жизни. Так в противовес Шишкову и его сторонникам возникает литературное общество «Арзамас», в котором состояли Пушкин, Жуковский, Вяземский, Уваров и так далее.
За этим последовали другие дискуссии. Николай Иванович Гнедич отложил свой перевод «Илиады», выполненный александрийским стихом, и признал правоту Сергея Семеновича Уварова, который утверждал, что «Илиаду» следует переводить гекзаметром. В этот момент оживает забытая «Телемахия» Тредиаковского, который первый пришел к соответствующему выводу. Потом начинаются бурные споры между Гнедичем и Василием Васильевичем Капнистом. Капнист, который принадлежал к державинскому кружку, призывал Гнедича «постараться изобресть как для эпопеи, так и для других родов стихотворства размеры, свойственные нашему языку».
Тем временем литературная жизнь в России все более усложняется. В какой-то момент литературная критика начинает бороться за писателей прошлого. И так сказать, державинцы, и арзамасцы пытаются опереться на Ломоносова, ссылаются на него, аргументируя свои позиции. В 1810 году в «Вестнике Европы» Жуковский печатает статью о сатирах Кантемира, которого сравнивает с Горацием и Ювеналом, полагая при этом, что Кантемир, если оставить в стороне его устаревший язык, — в полной мере актуальный писатель, необходимый литературной современности.
В 1816 году связанный с Жуковским Константин Николаевич Батюшков пишет статью «Вечер у Кантемира», где Кантемир предсказывает появление Ломоносова, а с ним ряд современников Жуковского и Батюшкова склонны соотносить первого, имея в виду тот факт, что он, как в свое время Ломоносов, связал русскую литературу с германской. Так времена Кантемира и Ломоносова если не оживают в начале нового XIX столетия, то все еще светят, пусть и сколь угодно отраженным светом, и поэты новых поколений вынуждены самоопределяться в давно очерченных сегментах литературного пространства.
Жалкие грибы и высшие цели
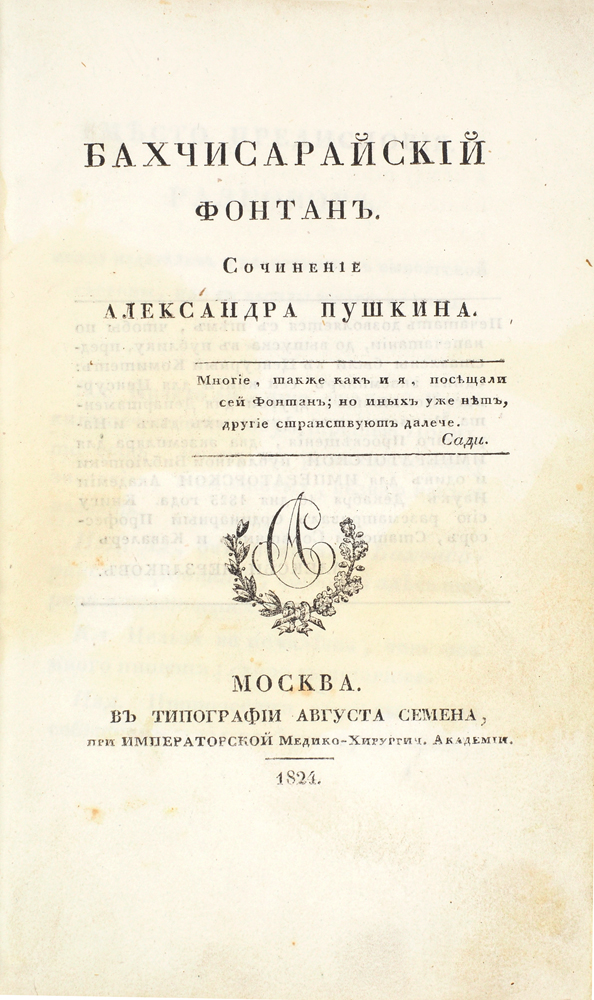
В 1824 году князь Петр Андреевич Вяземский издал поэму Пушкина «Бахчисарайский фонтан», к которой написал обширное предисловие. Вокруг этого предисловия началась яростная журнальная война. Вяземскому, который противопоставил классицизму романтизм, возражал Михаил Александрович Дмитриев в журнале «Вестник Европы». Полемика шла сразу по нескольким направлениям. В печати Пушкин вынужденно солидаризируется с Вяземским, однако в частном письме вопрошает: «Где же враги романтической поэзии? где столпы классические?» Иначе говоря, Вяземскому заявлено, что его конструкция не работает, поскольку классицизма как такового в русской литературе нет. Позицию Пушкина проясняет его заметка о романтической и классической поэзии (1825), в которой он предлагает рассматривать проблему классицизма и романтизма в категориях истории форм: классицизм — это древние формы, романтизм — новые формы в сочетании с модифицированными древними. Классицизм, оформившийся в XVIII веке, не имеет никакого отношения к тому древнему классицизму, которого в русской литературе еще нет и с освоением которого Пушкин связывает будущее русской литературы. Мы привыкли к тому, что обычно русская литературная эволюция обсуждается как переход от классицизма к романтизму. С точки зрения Пушкина важна и противоположная тенденция: не к романтизму, а от него — к истинному классицизму.
В ряду поэтов, стремящихся к классицизму, Пушкин видит Дельвига, Баратынского и Гнедича, которому в частном письме пишет, что его перевод Илиады — «первый классический, европейский подвиг в нашем отечестве». Первым романтиком, проделавшим путь от романтизма к классицизму, Пушкин считает Павла Александровича Катенина.
Что же такое классицизм XVIII века, с точки зрения Пушкина? Он полагает, что поэты XVII века не породили достойных последователей. Во французской литературе произошел поворот в сторону мадам де Жанлис и подобных ей писателей, которых Пушкин уподобляет «грибам, выросшим у подножия дубов». Русская литература XVIII века, по его мнению, подражает этим жалким «грибам», что обуславливает ее «ничтожество».
Существует два выхода из сложившейся ситуации: обратиться к истинному классицизму и осваивать древние формы или модифицировать так называемый русский классицизм XVIII века. Пушкин, как мы видели, считает особенно важным первый, но не отказывается от второго и, процитируем незавершенный «Роман в письмах», «вышивает новые узоры по старой канве». Например, «Капитанская дочка» в значительной мере включает в себя опыт русского классицизма XVIII века. Однако сложность предложенной модели сыграла свою роль, и даже в кругу единомышленников поэта у нее оказалось немного последователей.
Падение французской литературы и обрушение наследия великих поэтов XVII века — Расина, Корнеля, Мольера — имели еще одно последствие. Впадая в ничтожество, французская литература (а вместе с ней английская и итальянская) отказалась от величайших шедевров романтической литературы. Прежде всего это относится к Данте. Такое понимание истории европейских литератур многое обусловило в позиции пушкинского «Современника». Неслучайно в числе участников этого журнала появились Тютчев и Гоголь. Рядом с ними — старшее поколение: Жуковский проявляет неподдельный интерес к Тютчеву, а Вяземский печатает в «Современнике» огромную статью о «Ревизоре». Именно Вяземский впоследствии свяжет с Гоголем тему Данте, высказав предположение, что план «Мертвых душ» ориентирован на «Божественную комедию». А «Стихотворения, присланные из Германии» Тютчева неизбежно ассоциировались с поэзией Гёте, столь много значившего и для Жуковского, и для Пушкина.
Таким образом, вырисовывается некий предельный уровень развития европейских литератур, где важнейшими ориентирами являются античность и мистический романтизм, «Божественная комедия» и «Фауст». Перед русской словесностью ставится грандиозная задача: рядом с литературой древних форм и разного рода модификациями того, что мы привыкли называть классицизмом XVIII века, должно было возникнуть нечто, выходящее на предельно высокие уровни европейской культуры.