«От Пушкина у меня большая голова стала»
Крестьянская школа литературной критики Адриана Топорова
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Интеллигенты и мужики
Адриан Топоров родился в 1891 году в деревне Стойло Курской губернии. Условия жизни будущего педагога соответствовали имени его малой родины: семья, состоявшая из пятнадцати человек, жила в грязной избе, куда зимой загоняли птицу и скот. Несмотря на тяжелые условия жизни, родителям Адриана не чужда была тяга к прекрасному: отец, который держал в страхе всю семью, знал грамоту и тайком занимался каллиграфией, а кроткая, забитая мать украшала дом полевыми цветами и могла подолгу сидеть у окна, глядя на звездное небо.
В 1908 году Адриан окончил местную учительскую школу. Тогда ему казалось, что проведенные за партой годы прошли впустую. Из воспоминаний:
«Мечтал ли я тогда об учительском поприще? Вряд ли. Тянуло ли меня к знаниям? Пожалуй, и этого нельзя сказать. Любознательность, конечно, была, но наставники наши делали все, чтобы убить ее на корню. „Светских“ книг мы почти не читали, о газетах и журналах понятия не имели. Нас не учили думать, а учили верить, воображение преследовалось, поощрялась только память. Даже арифметические правила надо было запоминать без рассуждений, как молитву...»
Новые знакомства и переезд в Барнаул, куда в то время стекались все ссыльные интеллигенты, изменили взгляды Топорова на будущую профессию. Оказавшись в большом городе, он начал ходить на спектакли и концерты, брал уроки игры на скрипке, самостоятельно учился ораторскому мастерству и занимался в библиотеке, готовясь к поступлению в университет. До университета дело не дошло: как-то раз, побродив по окраинам Барнаула и посмотрев на местных жителей, Топоров решил оставить шумный город. «...Я стал понимать, что милые мне интеллигенты — это всего лишь тонкая пленка, а под нею — сотни тысяч рабочих, грузчиков, баб и мужиков», — вспоминал он. В 1915 году Топоров приехал в глухое алтайское село Верх-Жилино, воодушевленный желанием «сеять чистое, доброе вечное». Первые урожаи оказались скудными:
«Довольно быстро стало мне ясно, что „неоплатный долг“, который мечтал я им [крестьянам] вернуть, они не особо хотели и принимать. Не было ничего вроде „ах, приехал, родимый, наконец-то“. Была худая школенка, было нищенское жалование, были равнодушие, подозрительность, хмурое молчание баб и мужиков».
В 1920 году в трех километрах от Верх-Жилино крестьяне организовали коммуну «Майское утро». По приезде туда Топоров сразу же развернул бурную деятельность: начал проводить занятия не только для детей, но и для взрослых, выступал с лекциями, давал уроки игры на музыкальных инструментах. Читки устраивались по вечерам. Но проводить литературные диспуты педагог начал не сразу: опыта у него было немного, а вот сомнений по поводу себя и своих учеников — более чем достаточно.
Самое дорогое зернышко
Топоров справедливо называл художественную литературу «самой доступной трудовому народу ветвью искусства». Организовать концерты и походы в музеи педагогам и культработникам удавалось не всегда и не везде. Вечера художественной самодеятельности требовали много усилий: как, например, поставить пьесу в деревенском клубе, если большинство актеров не умеет читать? Между тем книги начали появляться даже в самых глухих селениях, и публичные читки позволяли насладиться красотой художественного слова даже тем, кто все еще расписывался крестом.
Однако качество литературы, которой снабжали крестьян, оставляло желать лучшего. Магазины, библиотеки и сердобольные горожане жертвовали деревням книги по принципу «на тебе, боже, что нам негоже». Литературные журналы как минимум наполовину были заполнены низкопробными художественными агитками. Это стало одной из главных причин, по которой Адриан Топоров решил развивать массовую «низовую критику». Деревенский читатель должен был сам выбирать, что ему нравится, и отметать ненужное, тем самым влияя на творчество авторов и помогая издательствам отбирать художественные произведения для народа. Профессиональным критикам Топоров не доверял, упрекая их в сложности языка рецензий и ошибочных оценках, из-за которых круг чтения рабочих и крестьян то и дело пополнялся «паскудными вещами». Будущее литературы зависело от мнения неискушенных, но строгих читателей:
«...Ученую критику мы слышали давно, она существует века. Теперь советская власть желает послушать критику „нескладную“, массовую, рабоче-крестьянскую. Советская власть хочет знать от вас самих, нравятся ли вам те книги, которые для вас пишутся в центрах и на которые расходуются большие государственные деньги, или не нравятся? <...> Сильная, меткая, хотя и грубая рабочая, крестьянская речь часто дороже гладкой интеллигентской речи. В критике она — самое дорогое зернышко. <...> Критикуйте по совести, от сердца».
(здесь и далее — цитаты из книги «Крестьяне о писателях»)
 Топорова заботил не только ассортимент книжного рынка. Прежде всего он стремился привить пролетариату любовь к художественному слову и доказать советской интеллигенции, что трудящиеся массы могут чувствовать и понимать искусство не хуже образованных горожан. Поначалу он сомневался в успехе своего начинания. «...Мои слушатели, да и сам я плохо разбирались в тонкостях литературно-художественного творчества, — вспоминал Топоров. — Мне казалось, что я зову крестьян исследовать тончайшее анатомическое строение золотистой пыли мотылька при помощи разрубов ее топором». С недоверием отнеслись к затее сельского учителя и его подопечные. «Мы не можем ничего понимать в литературе, не нам ее судить, — смущались коммунары. — Пусть судят ученые, мы не умеем говорить по-ученому, над нашими словами будут смеяться...» В конце концов Топоров призвал крестьян «лупить как придумывается», а для себя решил:
Топорова заботил не только ассортимент книжного рынка. Прежде всего он стремился привить пролетариату любовь к художественному слову и доказать советской интеллигенции, что трудящиеся массы могут чувствовать и понимать искусство не хуже образованных горожан. Поначалу он сомневался в успехе своего начинания. «...Мои слушатели, да и сам я плохо разбирались в тонкостях литературно-художественного творчества, — вспоминал Топоров. — Мне казалось, что я зову крестьян исследовать тончайшее анатомическое строение золотистой пыли мотылька при помощи разрубов ее топором». С недоверием отнеслись к затее сельского учителя и его подопечные. «Мы не можем ничего понимать в литературе, не нам ее судить, — смущались коммунары. — Пусть судят ученые, мы не умеем говорить по-ученому, над нашими словами будут смеяться...» В конце концов Топоров призвал крестьян «лупить как придумывается», а для себя решил:
«Великое в художественной литературе потому и великое, что оно действует на большинство людей. <...> Люди ощущают больше, чем понимают и могут выразить. <...> Художественное произведение рассчитано прежде всего на эмоциональное существо человека. Через возбуждение эмоций, через их пути оно преобразует и наш ум. Если произведение искусства не зажигает наших эмоций, не заинтересовывает, не заражает, не тянет к себе внешними формами, то оно никчемно или, во всяком случае, сила его воздействия на человека ограничивается».
За нутро, за сердце, за шкуру
Действовать приходилось методом проб и ошибок, поскольку ни единомышленников, ни коллег с аналогичным опытом у Топорова было. Но, благодаря тому, что он был прекрасным чтецом и умел найти подход к деревенской публике, литературные вечера никогда не оставались без слушателей. Во время обсуждений он давал коммунарам полную свободу самовыражения. «Пусть ругают, хвалят, шутят, острят, высмеивают, каламбурят, вспоминают, высказывают свои психофизиологические ощущения, сравнивают, восторгаются, возмущаются, жестикулируют, драматизируют, вздыхают, плачут, хохочут, недоумевают, возражают и т. д.», — писал он о методике своей работы. Но тут же отмечал, что забывать о постоянной схеме разбора прочитанного не следует.
 Схема состояла из нескольких вопросов, которые выносились на общее обсуждение и могли незначительно меняться в зависимости от прочитанного. Коммунары должны были определить, насколько произведение правдоподобно, какие «значительные мысли» в себе несет, какие чувства вызывает и не вредит ли советскому человеку. В конце обсуждения публика выносила «приговор» — решение о том, годится ли книга или публикация для народной библиотеки.
Схема состояла из нескольких вопросов, которые выносились на общее обсуждение и могли незначительно меняться в зависимости от прочитанного. Коммунары должны были определить, насколько произведение правдоподобно, какие «значительные мысли» в себе несет, какие чувства вызывает и не вредит ли советскому человеку. В конце обсуждения публика выносила «приговор» — решение о том, годится ли книга или публикация для народной библиотеки.
Вопросы для обсуждения следовало формулировать так, чтобы они были понятны слушателям. Топоров советовал:
«Переводите... с академического языка на рабоче-крестьянский. Вместо: „Какова композиция произведения?“ спросите: „Складно, гладко ли прилажены части этого сочинения?“ или: „Клеятся ли части книги друг ко другу?“ Вместо: „Каково эмоциональное воздействие произведения?“ спросите: „Берет ли вас книга за нутро, за сердце, за шкуру?“»
Педагог придерживался принципа полного беспристрастия: он никогда не показывал своего отношения к прочитанному, не говорил о мнении критиков, более того — знакомил слушателей с биографией автора только после обсуждения, так как «если биография „жалостная“, писателя немножечко как будто щадят, биография неприятная — „строжатся“». Перед читками Топоров рекомендовал проводить беседы, но подчеркивал, что они должны содержать только общую информацию о произведении или давать нужный для понимания исторический и культурный контекст. Чтец мог рассказывать как о значении стихов Демьяна Бедного в поддержании духа Красной гвардии, так и о влиянии работ Жан-Жака Руссо на педагогику.
Также Топоров предлагал время от времени читать «идеологически не выдержанные в советском духе книги». Разумеется, разборы таких книг нужно было проводить осторожно, «дабы вскрыть вредоносность их содержания». Если произведение, вопреки ожиданиям чтеца, вместо отторжения вызывало у слушателей положительную реакцию, переубеждать публику не следовало. Название книги и имя автора вносились в особую памятку для издательств и книготорговых учреждений, которые должны были «закрыть вредной книге движение в массы».
 Несмотря на то что сам Топоров выбирал для читок совершенно разную литературу — от Гомера и Гёте до Максима Горького и Демьяна Бедного, — коллегам он советовал знакомить слушателей с произведениями на актуальные темы: советская фабрика, правовое положение женщины в СССР, новая деревня, современная школа, положение пролетариата в буржуазных странах и так далее. Захватывающие сюжеты, вписанные в канву советской идеологии, обучали крестьян политграмоте лучше, чем газеты и лекции. Например, коммунар Зубков П. С. говорил о пьесе «Любовь Яровая»:
Несмотря на то что сам Топоров выбирал для читок совершенно разную литературу — от Гомера и Гёте до Максима Горького и Демьяна Бедного, — коллегам он советовал знакомить слушателей с произведениями на актуальные темы: советская фабрика, правовое положение женщины в СССР, новая деревня, современная школа, положение пролетариата в буржуазных странах и так далее. Захватывающие сюжеты, вписанные в канву советской идеологии, обучали крестьян политграмоте лучше, чем газеты и лекции. Например, коммунар Зубков П. С. говорил о пьесе «Любовь Яровая»:
«Бывает часто газетная толковня, что в борьбе с советской властью меньшевики и эсеры — самые вредные люди. Этому и веришь, но это неубедительно. А уж эту мысль ужасно крепко ты себе возьмешь в голову, когда посмотришь или прочтешь „Любовь Яровую“».
Пряничная неприятность
Правдоподобие было главным критерием оценки. Малейшее отступление от реальности могло подорвать доверие публики к автору и испортить впечатление от прочитанного. Художественная условность считалась недопустимой. Натурализм, каким бы жестоким и жутким он ни был, всегда приветствовался:
«Сбрехал он тут порядочно: из поезда бабу из ружья не убьешь» (Стекачев И. А. о рассказе Исаака Бабеля «Соль»).
«Отца Харлампия поили неестественно <...> На амвоне поп не станет блевать» (Зайцев А. А. о романе Федора Панферова «Бруски»).
«Орудия, сказывает, плевались длинными кусками огня. Так, так. Это уж так. Плюнет так плюнет. Видывал я на Японской войне. Так баско приложен рассказ, что хоть ты и был на войне, а лучше не скажешь» (Титов П. И. о романе Владимира Зазубрина «Два мира»).
 Важное значение имели сюжет и композиция. «Как чорт ладана, не переносят крестьяне в художественных произведениях скачкообразного, ребусного, слишком динамичного, композиционно-разбитого, а попросту — беспорядочного изложения», — отмечал Топоров. Его слова подтверждают отзывы коммунаров на поэму Блока «Двенадцать»:
Важное значение имели сюжет и композиция. «Как чорт ладана, не переносят крестьяне в художественных произведениях скачкообразного, ребусного, слишком динамичного, композиционно-разбитого, а попросту — беспорядочного изложения», — отмечал Топоров. Его слова подтверждают отзывы коммунаров на поэму Блока «Двенадцать»:
«Эту поэму читаешь, как все равно баб слушаешь, когда они каждая свою поэму читает. Около них сидишь и ни черта не понимаешь» (Бочаров Ф. З.).
«Последние строчки „Двенадцати“ не мог я ни к чему определить. То ли это буржуазия убегала со Христом? Кто тут идет державным шагом? Черт его знает, что такое!» (Шитиков Д. С.)
«...„Двенадцать“ для меня — ничто. Хоть бы тринадцать их было, хоть сколько! Эти двенадцать — загадка. И никому ее не отгадать. Может быть, кто-то и будет говорить: „Я ее отгадал“, но все равно это неверно будет. Другой может эдак разгадывать поэму, а третий — эдак. И конца-краю не будет разгадкам, и все они будут неверны. Я бы спросил этого Блока: для чего он писал поэму? Никто не скажет, для какого смыслу она нужна человечеству» (Блинов Е. С.).
 Сложно давался коммунарам и «интеллигентный язык». Витиеватый слог, причудливые образы и обилие символов в лучшем случае вызывали смех. «Гомерический хохот сотрясает нашу аудиторию, когда читки пересыпаются выкрутасными выражениями», — писал о предпочтениях слушателей Топоров и приводил несколько «выкрутасных» примеров: «Я рад зауздать землю» (Сергей Есенин); «Яростного цвета борода его была расчесана надвое...», «Настроение было толстое...», «Не сон, а какая-то сплошная пряничная непонятность» (Леонид Леонов); «Если время стоит — / И нельзя разобраться — / Выход смерти иль туфли слуги...» (Павел Антокольский); «Их возгласы увозят на возах, / Их обступают с гулом колокольни, / Завязывают заревом глаза / и оставляют корчиться на кольях» (Борис Пастернак).
Сложно давался коммунарам и «интеллигентный язык». Витиеватый слог, причудливые образы и обилие символов в лучшем случае вызывали смех. «Гомерический хохот сотрясает нашу аудиторию, когда читки пересыпаются выкрутасными выражениями», — писал о предпочтениях слушателей Топоров и приводил несколько «выкрутасных» примеров: «Я рад зауздать землю» (Сергей Есенин); «Яростного цвета борода его была расчесана надвое...», «Настроение было толстое...», «Не сон, а какая-то сплошная пряничная непонятность» (Леонид Леонов); «Если время стоит — / И нельзя разобраться — / Выход смерти иль туфли слуги...» (Павел Антокольский); «Их возгласы увозят на возах, / Их обступают с гулом колокольни, / Завязывают заревом глаза / и оставляют корчиться на кольях» (Борис Пастернак).
Поэзия Велимира Хлебникова, Ильи Сельвинского, Андрея Белого, Бориса Пастернака и других современных авторов могла привести публику в ярость. Топоров рассказывал:
«На разборах заумных сочинений крестьяне, возмущаясь, доходят до белого каления и ревут мне:
— Пиши советскому правительству от нашего лица: замулевать эти сочинения к чортовой матери, чтоб они не гадили нашу литературу, чтобы из-за них не падало пятно на всю Советскую Россию!
— Скажи, что пакостные книги нельзя пускать за границу. А то из-за каких-то недоумков, никудышных писателишек там подумают, что мы все здесь оболтусы. Дескать, дурное читаем и не можем выбросить вон!»
Однако нельзя сказать, что воспитанники Топорова питали отвращение к возвышенному поэтическому слогу. Например, им очень нравились «Шепот, робкое дыханье...» Афанасия Фета, «Лишь заискрится...» Александра Блока, «До последнего дня» Константина Бальмонта. Опять же, главным критерием здесь было правдоподобие, за которое автору могли простить многое. «И луна, и соловей, ну, все при ночи! Ровно у нас в мае месяце, вон там, за баней, над рекой», — восхищался кто-то из коммунаров стихотворением Фета.
Хороший автор, по мнению крестьян, должен был писать «экономно» и доносить до читателя мысли простым и понятным языком. За это ценили Алексея Новикова-Прибоя («Написал он понятно и легко. Выкрутасов никаких», — Блинов Е. С.), Владимира Зазубрина («То дорого в книге, что понятность ее самая деревенская», — Блинова Т. П.) и, конечно, Пушкина («Из одной фразы во-о-о какая картина раздувается!» — Стекачев И. А.).
Наше все
Пожалуй, ни один автор не производил на слушателей такого сильного впечатления, как Пушкин. Его бурно обсуждали на читках, вспоминали на работе и дома. Отзывы коммунаров «Майского утра» о творчестве поэта составили объемную рукопись, которая заняла значительную часть книги Топорова. «Коммунары спешили пошабашить дневную работу, чтобы вечером не опоздать в школу на читки, — вспоминал педагог о пушкинских вечерах. — Еще задолго до звонка гонга-шабалы школа была набита слушателями».
С одинаковым увлечением публика следила за приключениями Петра Гринева из «Капитанской дочки» и внимала игривому рассказу о пышной трапезе, описанной в «Торжестве Вакха». «Дубровского» слушали затаив дыхание. После описания сборов Маши к венцу в зале началось волнение. «Ох, тошно мне!» — закричала коммунарка Бочарова А. П., а остальные подхватили: «Пропало дело! Скрутили!» Князя Верейского назвали «старой сволочью» и грозились пристрелить. На обсуждениях звучали только восторженные отзывы:
«Ох, и разворочало у меня котелок! Ни в каком случае никто не годится против Пушкина. От Пушкина у меня большая голова стала. Пушкин — бог!» (Бочарова А. П.)
«Чувствуешь себя на чтении, ровно летишь. Уставуришься и не мигнешь глазами» (Пушкина А. П.).
«Прямо сердце заходится и высказать неможно как» (Стекачева П. Ф.).
 В произведениях Пушкина коммунарам нравилось все: реалистичные персонажи («...рыжий мальчишка в „Дубровском“ прямо ну Ераски Легалова мальчишка!!!» (Носова А. С.)), интересные сюжеты («Даже и не подумаешь того, чо напоследе рассказа случится» (Титова А. С.)), язык («шибко хорошее у него уклоненье в речи» (Блинова Т. П.)). В поэте видели не только мастера слова, но и провозвестника революции, который осмеивал служителей церкви в «Сказке о попе и работнике его Балде», открыто говорил о тяжелой жизни крестьян в стихотворении «Деревня», критиковал самодержавие в поэме «Борис Годунов» и постоянно высмеивал дворян («...пишет стих про природу, а все-таки и тут дворян стукнет незаметно» (Стекачев Т. В.)). К слову, дворянское происхождение самого Пушкина вопросов не вызывало. Возможно, коммунары просто не знали об этом факте.
В произведениях Пушкина коммунарам нравилось все: реалистичные персонажи («...рыжий мальчишка в „Дубровском“ прямо ну Ераски Легалова мальчишка!!!» (Носова А. С.)), интересные сюжеты («Даже и не подумаешь того, чо напоследе рассказа случится» (Титова А. С.)), язык («шибко хорошее у него уклоненье в речи» (Блинова Т. П.)). В поэте видели не только мастера слова, но и провозвестника революции, который осмеивал служителей церкви в «Сказке о попе и работнике его Балде», открыто говорил о тяжелой жизни крестьян в стихотворении «Деревня», критиковал самодержавие в поэме «Борис Годунов» и постоянно высмеивал дворян («...пишет стих про природу, а все-таки и тут дворян стукнет незаметно» (Стекачев Т. В.)). К слову, дворянское происхождение самого Пушкина вопросов не вызывало. Возможно, коммунары просто не знали об этом факте.
Пользительно для деревни
Обсуждения произведений других классиков русской литературы в книгу не вошли. Нет в ней отзывов и о зарубежных авторах, что очень досадно: было бы интересно узнать, что коммунары говорили, например, о «Фаусте». Значительную часть сборника Топорова занимают разборы советских произведений, не пользующихся популярностью в наше время. Так, многие знакомы с повестью Владимира Зазубрина «Щепка» о зверствах чекистов во времена красного террора, однако роман «Два мира» того же автора известен не так хорошо. Между тем это объемное произведение лишило коммунаров сна, заставило их рыдать, кипеть от злости и холодеть от ужаса.
Зазубрин был непосредственным участником Гражданской войны, несколько месяцев служил в колчаковской армии, затем перешел к красным. В книге он подробно рассказывает о преступлениях белогвардейцев против мирного населения. Описания пыток, изнасилований и убийств не уступают в натурализме сценам из фильма «Иди и смотри». Книга шокировала публику:
«Я не робкого десятка, а и то сердце у меня тряслось, как осиновый лист...» (Носов М. А.)
«Приду домой — и ночи целые думаю, догадываюсь, понимаю. Вот ляжу спать — висит передо мною мужик на журавле! Висит, болтается, а тут коло него несмышленые детишки бормочут: „Папаня плясит и длазнится“» (А. П. Бочарова).
«Тут не токма что люди — и вши все мрут от ужаса. Слезу никак не удержишь» (Блинова Т. П.).
 Плакали коммунары и на читках повести Александра Неверова «Ташкент — город хлебный» о приключениях крестьянского мальчика Мишки во время массового голода в Поволжье. Не последнее место здесь сыграла художественная манера автора, который писал «хорошими мужичьими словами». «Не так как другие: пишут только для интеллигенции, — а этот хоть кому пойдет», — хвалил Неверова Шитиков Д. С. Произведение так сильно подействовало на слушателей, что Топоров впоследствии напоминал им о повести каждый раз, когда проводил агитацию за пожертвования в пользу беспризорных и детдомов. Во время обсуждения «Ташкента...» между похвалами в адрес повести прозвучал один важный вопрос, который остался без ответа:
Плакали коммунары и на читках повести Александра Неверова «Ташкент — город хлебный» о приключениях крестьянского мальчика Мишки во время массового голода в Поволжье. Не последнее место здесь сыграла художественная манера автора, который писал «хорошими мужичьими словами». «Не так как другие: пишут только для интеллигенции, — а этот хоть кому пойдет», — хвалил Неверова Шитиков Д. С. Произведение так сильно подействовало на слушателей, что Топоров впоследствии напоминал им о повести каждый раз, когда проводил агитацию за пожертвования в пользу беспризорных и детдомов. Во время обсуждения «Ташкента...» между похвалами в адрес повести прозвучал один важный вопрос, который остался без ответа:
«Горька жизнь многих детей. Только к чему это детское горе? Над этим надо раздуматься» (Титов П. И.).
Еще одно произведение, которое одобрили коммунары, — рассказ «Ухабы» Новикова-Прибоя. Злодейства здесь творили уже не белые, а восставшие матросы. Боцмана расстреляли и бросили за борт, кондуктору вонзили штык в задний проход, а лейтенанта заживо сварили в каюте, пустив туда горячий пар. Заканчивался рассказ относительно благополучно: народный суд оправдал сочувствующего революции капитана корабля Виноградова, а его дочь бросила своего мужа-интеллигента и вышла замуж за одного из зачинщиков восстания.
Говоря об описанной в рассказе жестокости, воспитанники Топорова признавали, что автор «живописно и умно вскрыл вероломную и страшную психологию толпы», однако не высказывали неприязни к самим матросам. «Понравилась мне сцена, где офицера запарили», — отмечал коммунар Стекачев М. И. Приятно удивил слушателей капитан Виноградов, который, несмотря на офицерский чин, «понял Советскую власть и доволен этим» («...выходит, что и генералы бывают хорошие» (Шитикова М. Т.)). Коммунар Блинов счел историю «очень даже пользительной для деревни». «Ученый, скажут, человек признал Советскую власть, — рассуждал он. — Которые мужики сомневаются, они за Виноградовым пойдут».
 Судя по опубликованным рукописям Топорова, к поэзии коммунары относились с меньшим энтузиазмом. Разумеется, огромной популярностью у публики пользовался поэт-пролетарий Демьян Бедный. Из классиков, помимо Пушкина, с удовольствием слушали Лермонтова, Фета и писавшего о крестьянской жизни Михаила Кольцова. Хорошо отзывались о «Песни о великом походе» Сергея Есенина, «Сказе о Ермаковом походе» Георгия Вяткина и «Бессоннице» Петра Орешина. Многих тронуло стихотворение Александра Безыменского «Партбилет № 224332», написанное на смерть Ленина. Несмотря на минорный тон, оно заканчивалось вдохновляющим четверостишием:
Судя по опубликованным рукописям Топорова, к поэзии коммунары относились с меньшим энтузиазмом. Разумеется, огромной популярностью у публики пользовался поэт-пролетарий Демьян Бедный. Из классиков, помимо Пушкина, с удовольствием слушали Лермонтова, Фета и писавшего о крестьянской жизни Михаила Кольцова. Хорошо отзывались о «Песни о великом походе» Сергея Есенина, «Сказе о Ермаковом походе» Георгия Вяткина и «Бессоннице» Петра Орешина. Многих тронуло стихотворение Александра Безыменского «Партбилет № 224332», написанное на смерть Ленина. Несмотря на минорный тон, оно заканчивалось вдохновляющим четверостишием:
Я в Партию иду. Я — сын Страны Советов.
Ты слышишь, Партия?.. Даю тебе обет:
Пройдут лишь месяцы — сто тысяч партбилетов
Заменят ленинский утраченный билет.
«Разные думки от стиха идут, — рассуждал Титов Н. И. — Будто идешь и боишься, а тебе кто-то: „Не трусь, все возьмем!“» «Стих ободряет всех нас, товарищев!» — соглашалась Титова Л. Г. Напротив, Блинов И. Е. высказал резонное замечание: «Сто тысяч партбилетов не заменят одного ленинского! Нет! Бестолковых напрет в партию — че толку то?» Читка проводилась в 1928 году, и бестолковых к тому времени уже «наперло»: после смерти Ленина начался массовый призыв в РКП(б), пополнивший ряды партии множеством политнеграмотных и просто неграмотных пролетариев.
Глуп как бабий пуп
Крестьяне могли прерывать Топорова, если произведение им не нравилось. Некоторые книги оставались недочитанными. Например, роман Юрия Олеши «Зависть» деревенская публика смогла осилить лишь наполовину. Многие сдавались раньше и уходили с читок. Замысловатый язык автора давался крестьянам с трудом. «Он возьмет строку добрую и припишет к ней десять чепухи», — ругал Олешу Носов И. А. Коммунар Зубков П. С. выразил желание дать автору по голове за двенадцатую главу первой части, где поэтично описывался звон колокольни:
«— Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли! Том Вирлирли. Некий Том Вирлирли реял в воздухе.
Том Вирлирли, Том с котомкой, Том Вирлирли молодой!
Всклоченный звонарь переложил на музыку многие мои утра. Том — удар большого колокола, большого котла. Вирлирли — мелкие тарелочки.
Том Вирлирли проник в меня в одно из прекрасных утр, встреченных мною под этим кровом».
«Много у Олеши интеллигентских слов, а мы их не понимаем, — возмущался Зайцев А. А. — Разве Либединский, Чехов, Толстой, Некрасов, Горький и другие хорошие писатели — не интеллигенты? А мы их понимаем». Содержание романа тоже не понравилось. «Там философствование и больше ничего. Если нам надо философию, то мы возьмем не Олешу, а Карла Маркса», — заявил Стекачев И. И. Он же остался недоволен тем, что «новый советский деловой человек» Андрей Бабичев «пел песни во время испражнения», потому что «так делают только одни пьяные». В результате коммунары сошлись на том, что «замысел в книге очень серьезен», но раскрыть его автору не удалось. Под замыслом имелось в виду противостояние старого мира в лице завистника Кавалерова и нового в лице Бабичева.
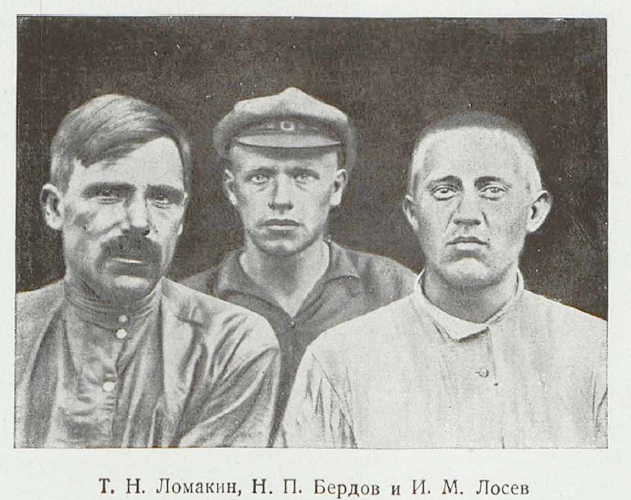 Не смогли дослушать и роман в стихах Бориса Пастернака «Спекторский». Судя по реплике Титовой Л. Г: «Калина-малина, куричье говно, а боле ничо не сказано», негативную реакцию вызвал следующий отрывок (содержится в ранней редакции романа):
Не смогли дослушать и роман в стихах Бориса Пастернака «Спекторский». Судя по реплике Титовой Л. Г: «Калина-малина, куричье говно, а боле ничо не сказано», негативную реакцию вызвал следующий отрывок (содержится в ранней редакции романа):
В кустах калины слышат их слова.
Садовая не придает им весу.
Заря глотает пиво и права,
Что щурится и точно смотрит пьесу.
Роман разнесли в пух и прах:
«Связанных слов нисколь нетути» (Титова А. И.).
«Отдельно слова понятны, а вместе — нет» (Тубольцев И. И.).
«...всадить бы писателю в руки вилку и назем ковырять» (Носов М. А.).
«Я прямо остервился. Покою нет! Такой азарт у меня, что сейчас бы задушил автора собственными руками» (Тубольцев И. И.).
Топоров признавался, что понять «Спекторского» не удалось ни крестьянам, ни ему самому. Публика была убеждена, что, получая гонорары за такие «небылицы в лицах», литераторы обкрадывают государство и простых людей, которые «платят налог вот за такую дрянь». Коммунар Носов В. А. призвал взыскать с Пастернака деньги, полученные за стихотворение, а Шитиков Д. С. и вовсе потребовал конфисковать у автора имущество. Все слушатели сошлись на том, что «Спекторского» следует уничтожить.
Большую неприязнь крестьяне питали к Сергею Есенину. Каждый раз, когда Топоров усаживался за стол и брал книгу, они пристально изучали обложку. Если видели на ней рисунок березы, хмурились и ворчали: «Опять, поди, про рязанскую кобылу?» На читках приходилось прятать книгу от любопытных глаз: слушать и даже хвалить ненавистного поэта коммунары могли только в том случае, если не знали, кто написал стихи.
Чтение поэмы Есенина «Кобыльи корабли» сопровождалось скабрезными шутками и громким хохотом. Особенно понравилась крестьянам фраза «Посмотрите: у женщин третий / Вылупляется глаз из пу́па». В ответ посыпались экспромты:
«За третий глаз — по роже бы его раз!» (Бочарова А. З.)
«Сам он глуп как бабий пуп» (Титов П. И.).
«Про пупы да про кусты, а слова у него пусты» (Носов А. М.).
Сам Топоров в примечании к записи беседы отмечал «порнографический душок стиха». Вероятно, по этой же причине обсуждение есенинского «Сорокоуста» вообще не вошло в первое издание «Крестьян о писателях». «Как это всыпать нам в задницу окровавленный веник? — возмущалась публика. — Пососать у мерина, говорит... Нехай сам этим пользуется! Страмник!» Ругали и «Песнь о Евпатии Коловрате»: причудливая смесь авторских неологизмов с устаревшей лексикой озадачила коммунаров:
«Что же, перевод-то на русский язык есть или нет?» (Блинов Е. Е.)
«Тысячелетнего старика надо откуда-то выкапывать и просить его разъяснить эти изломистые слова...» (Блинов Е. С.)
«Пьяный он до́лжно был все время...» (Титов Н. И.)
Пахом против Макара
Коммунары любили упражняться в остроумии, однако в вопросах выбора юмористической литературы были довольно привередливы. Топоров писал:
«Говорят: крестьяне любят дешевый, грубый юмор. Неправда. Мне чуть не каждый день приходилось и приходится испытывать стыд за журналы „Крокодил“, „Лапоть“ и „Смехач“, большая половина содержания которых набита юмористической гнилью, совсем не смешной, написанной на скорую руку. И крестьяне редко когда смеются здоровым смехом над фельетонами названных журналов. Вот обычные отзывы моей аудитории о них:
— Так... Чепушичка...
— Мразь!
— Не лезет смех».
 Для того чтобы рассмешить слушателей, Топоров читал Чехова, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Лескова и даже Мольера. «Я уже давно заметил, что крестьяне любят такой юмор, который скрывает под собой трагическое или воспроизводит обыденные жизненные явления, действительно смешные и без авторских прикрас», — писал педагог о вкусах публики. Аверченко и Зощенко не любили. Последний, по словам педагога, разогнал почти всех слушателей. На обсуждениях его рассказов коммунары говорили:
Для того чтобы рассмешить слушателей, Топоров читал Чехова, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Лескова и даже Мольера. «Я уже давно заметил, что крестьяне любят такой юмор, который скрывает под собой трагическое или воспроизводит обыденные жизненные явления, действительно смешные и без авторских прикрас», — писал педагог о вкусах публики. Аверченко и Зощенко не любили. Последний, по словам педагога, разогнал почти всех слушателей. На обсуждениях его рассказов коммунары говорили:
«...у Зощенко смех слепленный, насобиранный, поддельный. <...> Как мужик-смехун тараторит. И холера его знает, что у него смешное? Над словами только смешно, а над положением человеческим редко когда смешно» (Блинов И. С.).
«На кой ляд мне такие рассказы сдались <...>. В них нет для меня никакого шаблону и показания для учебы жизни, чтобы, значит, я мог их куда-нибудь для идеи или к делу применить. <...> А он бы взял человека и пояснил главное его дело и довел бы его до самого последу и до показательного дела, чтобы я знал после: вот да, это написал!! Учись, ребята, по этому умному и художественному писанию!» (Шитиков Д. С.)
«У нас в селе живут два типа: Пахом и Макар. Пахом всегда говорит правду, но ему никто не верит. А Макар всегда врет, и ему всегда верят. Не верю Зощенке, как Пахому. А если писатель похож на Макара, то я ему буду верить. Пускай врет...» (Блинов Е. С.)
Топоров назвал рассказы Зощенко «капризным смешением были с небылицей» и отметил, что их трудно читать вслух, так как они «сшибают чтеца на один тон и держат его в нем, как в тисках». Тем не менее некоторые вещи коммунарам все-таки понравились: «Коза», «Столичная штучка», «Мещане», «Свадьба», «Дырка» и некоторые другие. Остальное единогласно назвали «мелочью и оскребками», ненужными деревенскому читателю.
Пассивное культурничество
Многих литераторов книга Адриана Топорова привела в восторг. Журналист Абрам Аграновский восхищался успехами коммунаров и называл их «Белинскими в лаптях». «С каждой страницы Вашей книги так и прет, так и сияет Ваша любовь к человеку, к читателю, да и их любовь и доверие к вам просто-таки очаровывают», — восхищался работой Топорова писатель Николай Рубакин. Максим Горький читал беседу о романе «Два мира», «захлебываясь от удовольствия», а Викентий Вересаев призывал педагога «непременно продолжать» просветительскую работу в деревне.
 К сожалению, врагов у Топорова тоже хватало. Помимо педагогической деятельности, он занимался журналистикой и писал заметки о неблаговидных поступках местных управленцев. За это Топорова не раз отстраняли от работы, исключали из профсоюза, клеймили контрреволюционером. В 1928—1929 годах районные руководители постоянно обрушивались на педагога с обвинениями в том, что он эксплуатирует своих воспитанников и «наживается на коммунарской критике». Однажды в коммуну приехали работники барнаульского окружного колхоза. Они сочли деятельность Топорова вредной, поскольку он «расслабляет революционную волю трудящихся и отвлекает их от политических и экономических задач». Один из барнаульцев, некто Попов, заявил коммунарам:
К сожалению, врагов у Топорова тоже хватало. Помимо педагогической деятельности, он занимался журналистикой и писал заметки о неблаговидных поступках местных управленцев. За это Топорова не раз отстраняли от работы, исключали из профсоюза, клеймили контрреволюционером. В 1928—1929 годах районные руководители постоянно обрушивались на педагога с обвинениями в том, что он эксплуатирует своих воспитанников и «наживается на коммунарской критике». Однажды в коммуну приехали работники барнаульского окружного колхоза. Они сочли деятельность Топорова вредной, поскольку он «расслабляет революционную волю трудящихся и отвлекает их от политических и экономических задач». Один из барнаульцев, некто Попов, заявил коммунарам:
«Вы абсолютно неграмотны! Вы не знаете основ марксизма. Вы ничего не понимаете в художественной литературе, а беретесь критиковать ее. Все недостатки в коммуне от чтения...»
В восьмом номере литературного журнала «Земля советская» за 1929 год опубликовали письмо оскорбленного учителя. Топоров писал:
«Подумайте только, с кем война, за что война?! И вот я вижу: художественная работа в нашей коммуне падает и падает. Вместо нее насаждается халтура. Настоящую художественную работу гонят, прикрываясь революционными фразами... Работников культуры в колхозах мало, да и тем, что есть, не дают работать, — совсем плохо!.. Провинциальное самодурство цветет у нас махровым цветом...»
В № 23-24 журнала «На литературном посту» за 1930 год вышла статья критика Михаила Беккера «Против топоровщины». Беккер жестоко раскритиковал методы педагога, сделав особый акцент на принципе беспристрастного отношения чтеца к произведению. Возмутила его и рекомендация читать коммунарам антисоветские книги. По мнению критика, литературные вкусы пролетариата следовало не развивать, а воспитывать:
«Мы предлагаем: основной рабочий критерий — строжайшее пристрастие. Не плестись в хвосте, а руководить... Направлять высказывания, исправлять, организовывать сознание читателя, корректировать его ошибки — таковы должны быть функции настоящих и будущих Топоровых».
Беккера возмутило, что Топоров сделал литературные вечера традиционным мероприятием и проводил их на протяжении девяти лет. По его словам, коммунарам хватило бы и нескольких занятий, поскольку трата времени на «пассивное культурничество» — непозволительная роскошь для советского человека. В целом смысл статьи сводился к тому же, о чем говорил Попов: неискушенные в литературе крестьяне не могли дать адекватной оценки художественному произведению.
«...высказывания отличаются большим примитивизмом и не поднимаются над уровнем непосредственных заявлений вроде: „Хорошо! Здорово! Стихи — дрянь!“ и т. д.», — писал Беккер. То ли он вовсе не брал в руки книгу, то ли изучал ее слишком тщательно, намеренно выбирая самые малозначительные и неудачные реплики. Второе подтверждает приведенное им обсуждение стихотворения Василия Казина «Чу! Как сердце бьет!», которое завершается чувственным: «Не даешь тугим прибоем крови / в кровь твою мою любовь вплеснуть». Разумеется, разбор этого литературного опуса сопровождался смехом и сальными шутками, чем не преминул воспользоваться Беккер.
За Топорова заступались коммунары, коллеги и писатели, но это не помогло. Травля продолжалась, и читки пришлось прекратить. В 1932 году педагог покинул Алтай. Он учительствовал в уральском городе Очер, затем переехал в подмосковное Раменское. В 1937 году Топоров был арестован по обвинению в «антисоветской деятельности». В лагерях он провел почти 10 лет.
Адриана Топорова реабилитировали в 1958 году. Несмотря на подорванное в ГУЛАГе здоровье, он дожил до глубокой старости и ушел из жизни в 1984 году в возрасте 92 лет. В 1961 году его имя вновь получило известность благодаря космонавту Герману Титову, который назвал педагога своим духовным дедом: будучи подростками, его родители состояли в коммуне «Майское утро» и были учениками Топорова.
Книга «Крестьяне о писателях» выдержала несколько переизданий. Содержание книг менялось. Так, в современных изданиях отсутствуют разборы некоторых малоизвестных художественных произведений: стихотворений «Побеждает? Победит!» Ивана Молчанова о революции в Китае и отмеченного Беккером «Чу! Как сердце бьет!» Казина, рассказов Всеволода Иванова и Анны Караваевой, повести «Разлом» Николая Ляшко и прочих. Найти некоторые тексты довольно непросто, так что беседы о них могут показаться менее интересными, чем разговоры о Пушкине, Есенине и Блоке.
К высказываниям коммунаров и «низовой критике» можно относиться по-разному, однако это не умаляет заслуг Адриана Топорова. Знакомясь с миром литературы, крестьяне учились критически мыслить, доверять себе и отстаивать свою точку зрения. Эти умения были несовместимы с эпохой коллективизации и грядущего сталинского террора, так что судьба литературных вечеров была предрешена задолго до их окончания. Но сделать то, к чему стремится любой хороший педагог, Топоров все-таки успел: научил своих воспитанников учиться.