От истории партии к истории повседневности
Научная биография историка Наталии Лебиной
Расскажите, пожалуйста, об учебе в университете.
Выбор профессии был совершен вопреки мечтам родителей сделать из меня биолога или медика. Для этого я была определена на учебу в одну из трех питерских престижных физико-математических школ. Там меня научили четко мыслить и четко излагать. Историю нам преподавал Лев Андреевич Киршнер. Импозантный вальяжный острослов, большой знаток своего предмета, он мог бы украсить кафедру любого вуза и даже истфака университета, но судьба распорядилась по-другому. В войну Киршнер попал в плен… Место школьного учителя стало высшей ступенькой его карьеры, а потом и судьбой. Обаяния Лев Андреевич был сумасшедшего, и я решила стать историком. Но этим самостоятельность выбора профессионального пути ограничилась. Далее очень многое определили родители.
Я закончила школу в 1966 году. Надо сказать, что тогда конкурс на истфак был сумасшедшим. Кроме того, именно в тот год выпускались одновременно два класса — 10-й и 11-й, то есть абитуриентов было в два раза больше. На вступительных экзаменах я написала сочинение о проблеме понятия «Родина» в советской поэзии на тройку. Может, оно действительно было так себе, не могу сказать, что там было что-то аполитичное или прозападное. В общем, я пару баллов не добрала, со мной случилась страшная истерика, и тогда в ход пошли связи родителей. В итоге удалось доказать, что сочинение я написала на четверку. Так, вопреки желанию родителей, но при их помощи, я поступила на исторический факультет.
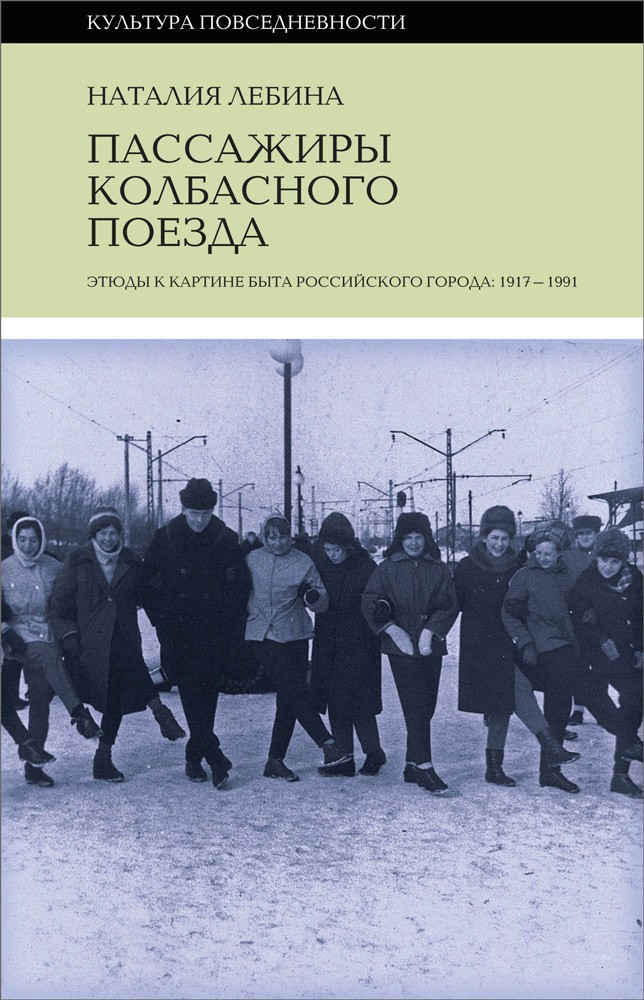 В день поступления я пришла домой и радостно объявила, что буду изучать историю античности или историю США. Мама и папа посмотрели на меня очень скептически и спросили, где я собираюсь работать после окончания истфака? Я тогда мало, что соображала, но в школе работать как-то не хотелось. Отец сказал, что стоит пойти на кафедру истории КПСС, чтобы потом была возможность преподавать в вузе. В 1960–1980-х годах это был прекрасный вариант для гуманитарной карьеры. Тогда историю КПСС читали во всех институтах. И многие мечтали устроиться работать на кафедры истории партии. Правда, сегодня большинство людей моего возраста предпочитают рассказывать о своем диссидентском прошлом, а не об обычных практиках жизни в СССР. Мне всегда хочется спросить моих коллег-историков: если все это было так серьезно и вы все предвидели, почему вы до самого распада СССР дожили в благополучии?
В день поступления я пришла домой и радостно объявила, что буду изучать историю античности или историю США. Мама и папа посмотрели на меня очень скептически и спросили, где я собираюсь работать после окончания истфака? Я тогда мало, что соображала, но в школе работать как-то не хотелось. Отец сказал, что стоит пойти на кафедру истории КПСС, чтобы потом была возможность преподавать в вузе. В 1960–1980-х годах это был прекрасный вариант для гуманитарной карьеры. Тогда историю КПСС читали во всех институтах. И многие мечтали устроиться работать на кафедры истории партии. Правда, сегодня большинство людей моего возраста предпочитают рассказывать о своем диссидентском прошлом, а не об обычных практиках жизни в СССР. Мне всегда хочется спросить моих коллег-историков: если все это было так серьезно и вы все предвидели, почему вы до самого распада СССР дожили в благополучии?
В общем, под влиянием родителей я пошла на кафедру истории партии. Возглавлял кафедру тогда очень любопытный человек — Николай Арсеньевич Корнатовский, бывший красный кавалерист. Он был тяжело ранен в Туркестане и сильно повредил ногу. По факультету этот хромой, лысый и грузный дядька ходил, громко стуча палкой, но доброты он был потрясающей и большого интеллекта. Хотя сформировался этот историк не сразу. На рубеже 1920–1930-х годов он написал блестящую работу об обороне Петрограда, но первое ее издание грешило сталинистскими настроениями. Прозрение пришло после того, как в 1949 году Николая Арсеньевича посадили «за троцкизм». В общем, когда я начала учиться на истфаке, на кафедре истории партии процветали вполне демократические настроения: сказывалось влияние оттепели. Но моя кафедральная принадлежность вызывала дикий хохот у моих знакомых — в частности, у компании на истфаке, которая постоянно обитала в модном тогда кафетерии. Это было еще до появления знаменитого «Сайгона», мекки питерского андеграунда 1970-х годов. Помню завсегдатаев «злачного места» на истфаке, личностей незаурядных. Все они по тому времени фрондировали. Это было модно… Я же, послушная папина дочка, благодаря учебе на кафедре истории КПСС уже на втором курсе смогла пробиться работать в партийный архив. Там я стала заниматься комсомольскими материалами начала 1920-х годов. Это вылилось в стойкий интерес к проблеме значимости молодежи в историческом процессе, к тому, что теперь называют исторической ювенологией. Такого слова, как, впрочем, и концепций школы «Анналов» тогда я, конечно, не знала. Но это не слишком мешало. Ныне все из школы «Анналов» переведено; можно спокойно читать Фуко, Барта, Бодрийяра, но видны ли следы этой литературы в работах современных историков? Я, например, не часто с этим сталкиваюсь. Здесь важно другое — стремление к использованию социальной теории должно идти изнутри. И воспитать это стремление можно было и в условиях, как теперь принято говорить, «господства одной марксистско-ленинской философии».
Вы сразу определились с темой?
Меня интересовал анализ фактов, а не их линейное складывание, и для того, чтобы это делать, я стала читать советскую социологическую литературу — например, книги Игоря Семеновича Кона. Я с увлечением читала и исследования Анатолия Георгиевича Харчева, который писал о семье. Полезными были работы по критике так называемой буржуазной науки. Это позволяло представить направления развития гуманитарной мысли в другом мире. Я увлеклась проблематикой молодежи, и все мои студенческие работы были посвящены вопросам политического сознания молодежи 1920-х годов. Меня интересовало реальное содержание популярной тогда фигуры речи «передовая молодежь». К этому я пришла от материала и от социологии молодежи, которая бурно развивалась в годы моего студенчества и опиралась, кстати говоря, на традиции социологии 1920-х годов. В общем, пока мои сокурсники пили кофе и ругали советскую власть, я сидела в архивах и в библиотеках. Все силы юности милые фрондеры истратили на критику коммунистов в очень узком кругу… Редко кто мог сочетать наивное диссидентство и кропотливую работу историка-исследователя. Потом кончились и большевики, и диссиденты, а материалы, собранные с особым юношеским рвением, очень даже пригодились.
А что это были за материалы?
Ну, это узкопрофессиональный вопрос. В так называемом партийном архиве хранятся документы центральных и местных организаций КПСС и комсомола. Существуют нормативные и делопроизводственные материалы. Откладывались в архивах статистика и даже нарратив — дневники и воспоминания. Все это тоже собиралось советскими архивистами. И вообще, как известно, исторический факт — это результат диалога документа и исследователя. И многое зависит не столько от ценности документа, сколько от оптики, которой вооружен ученый. Любой источник, будь то протокол комсомольского собрания или просьба о выдаче материального пособия, может быть прочитан не только с экономической и политической точки зрения, но и как материал, насыщенный антропологическим содержанием.

Наталья Лебина, 1968 год
Фото: предоставлено Наталией Лебиной
Чем вы занимались в аспирантуре?
Поступление в аспирантуру тоже результат родительской воли. На любимый истфак меня в аспиранты не взяли, хотя у меня был красный диплом, всякие награды за студенческие научные работы и даже публикация. На кафедру истории партии предпочитали брать членов КПСС, а вступить туда было не так просто. Отец, тогда довольно крупный чиновник в системе Академии наук, добился представления нескольких мест в аспирантуру Ленинградского отделения института истории СССР. Туда я поступала по общему конкурсу, но, думаю, папино положение оказало воздействие и здесь. Позднее я за все это очень дорого заплатила.
Когда я пришла в институт истории, вытаращив глаза, полные желания писать о социализации молодежи в 1920-е годы, мне сказали, что здесь таким не занимаются. Есть всего три проблемы, которые можно разрабатывать: история Великой Отечественной войны (но она мне была чужда), история советской культуры (мне и этим не хотелось заниматься) и история рабочего класса. Я выбрала третье и спросила: можно ли мне заняться историей молодежи рабочего класса? Мне разрешили. Кандидатская диссертация называлась «Рабочая молодежь Петрограда в первые годы НЭПа». Речь шла о специфике пополнения рядов рабочих за счет молодежи. На самом деле там все было связано с проблемой социализации в пролетарской среде. Но сам термин «социализация» употреблять в 1975 году было нельзя. Историки его не понимали, говорили, что это про эсеров, у них была программа «социализации земли». Даже когда я защищала в 1992 году докторскую диссертацию, понимания того, что такое социализация, у членов диссертационного совета не было. По поводу названия диссертации «Проблемы социализации рабочей молодежи Советской России 20–30-х гг.» мне сказали, что «социализация» бывает только в СССР. В США тоже есть молодежь, но никакой социализации там нет и быть не может.
Это вам в диссертационном совете так сказали?
Да, у меня сохранился протокол. Среда академическая, конечно, интеллектуальная, но и очень консервативная. Для них в 1992 году социализация в 1992 году была уже не про эсеров, а про внушение идей социализма. И все же я очень многому научилась на Ленинградском отделении Института истории СССР. Мне повезло соприкоснуться с талантливыми людьми, и они оставили серьезный след в моей профессиональной жизни. Например, Борис Николаевич Миронов, у него сейчас индекс Хирша равен 40 — это колоссально для гуманитария. Он самый крупный специалист по истории России конца XVIII–XIX веков, он также занимается клиометрией [междисциплинарное направление, связанное с применением экономической теории и эконометрических методов и моделей в исследованиях по экономической истории — прим. ред.]. Не могу не вспомнить блестящего ученого Валентина Семеновича Дякина. Он проводил у нас в учреждении ежемесячные философские семинары, где обсуждались и вопросы методологии истории. Это тоже формировало соответствующий «органчик» в моей голове.
Расскажите, пожалуйста, о своей докторской диссертации.
Шло время, у меня уже вышли две книги о проблемах рабочей молодежи, печатались статьи. Но коллеги все же считали, что я бездарная и к тому же наглая папина дочка, а книги за меня пишет отец. Но он умер в 1985 году, и через семь лет я подумала, что, наверное, уже могу заявить о себе как о серьезном ученом. Мне было 43 года — тогда непозволительная «молодость» для женщины-доктора наук в академической среде. Я по-прежнему занималась молодежными проблемами — в частности тем, что называют социальной адаптацией юношей и девушек в среде промышленных рабочих. Общая концепция моей диссертации сводилась к тому, что политизированная социализация молодых рабочих в Советской России носила деструктивный характер. В результате шел процесс частичной люмпенизации слоя общества, который в контексте тогдашней методологии именовали рабочим классом. Осмелилась я сделать этот вывод, экстраполировав наблюдения, сделанные на микромодели — двух поколениях рабочей молодежи, — на макроуровень, то есть на класс в целом. Таким образом, я замахнулась на знаменитую марксистко-ленинскую идею о ведущей роли пролетариата в историческом процессе и не только в нем. Такая вот скромная идея. Защита шла долго. Что было причиной такой реакции, мне не ясно до сих пор: то ли крупные академические ученые, в отличие от профессора Преображенского, страстно любили пролетариат, то ли очень не любили меня — почти по Мандельштаму, «за барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня». В любом случае выступлений против не было, все только задавали вопросы о социализации и о девиациях. У меня в работе была глава, которая называлась «Девиантные проявления в молодежной среде 1920–1930-х годов». Так вот, один из членов совета, прочитав это название, сказал: девиации — это про компас? Он был бывшим моряком. Я сказала: нет, это не про компас, это про Дюркгейма и компанию. В конце концов сработал механизм тайного голосования — я не получила двух третей голосов, необходимых для присуждения докторской степени. И тут я поняла, что моя научная карьера в Академии наук закончена. Теперь я наконец перестану считаться папиной дочкой и буду вести другую жизнь. Я начала работать как независимый исследователь.
То есть докторскую вы не защитили?
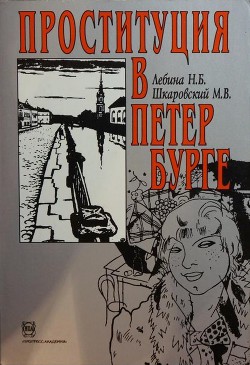 Защитила позже, в 1994 году в Москве. Переделала название, убрала слово «социализация» и защитилась. Но и там были курьезы: один из членов московского диссертационного совета спросил, почему я не пишу о ведущей роли рабочего класса в сфере формирования новой художественной культуры. И я, уже наученная горьким опытом, сказала, что, наверное, он влиял, но механизмы этого влияния выявить невозможно… Все это очень меня закалило и сделало человеком, умеющим идти к своей цели. Два года я проработала в музее истории Санкт-Петербурга, там я успела сделать «карьеру» в качестве экскурсовода в Музее-квартире Сергея Мироновича Кирова. Об этом этапе моей жизни я написала в 1997 году в статье, которая называется «Размышление о пустой спальне». Одновременно я решила продолжить попытки использования концепций Дюркгейма о девиантном поведении. В 1994 году вышла моя книга в соавторстве с Михаилом Витальевичем Шкаровским «Проституция в Петербурге». Предисловие к ней написал сам Игорь Семенович Кон! А это дорогого стоило.
Защитила позже, в 1994 году в Москве. Переделала название, убрала слово «социализация» и защитилась. Но и там были курьезы: один из членов московского диссертационного совета спросил, почему я не пишу о ведущей роли рабочего класса в сфере формирования новой художественной культуры. И я, уже наученная горьким опытом, сказала, что, наверное, он влиял, но механизмы этого влияния выявить невозможно… Все это очень меня закалило и сделало человеком, умеющим идти к своей цели. Два года я проработала в музее истории Санкт-Петербурга, там я успела сделать «карьеру» в качестве экскурсовода в Музее-квартире Сергея Мироновича Кирова. Об этом этапе моей жизни я написала в 1997 году в статье, которая называется «Размышление о пустой спальне». Одновременно я решила продолжить попытки использования концепций Дюркгейма о девиантном поведении. В 1994 году вышла моя книга в соавторстве с Михаилом Витальевичем Шкаровским «Проституция в Петербурге». Предисловие к ней написал сам Игорь Семенович Кон! А это дорогого стоило.
Потом я стала работать в Финэке (сейчас это Санкт-Петербургский экономический университет) и на протяжении восемнадцати лет преподавала усеченный курс российской истории, но постоянно занималась и научной работой. Примерно такой вот тернистый творческий путь.
С одной стороны — «девиантное», с другой стороны — норма…
Я не опубликовала свою докторскую диссертацию, но подумала, что многие из собранных материалов я могу использовать в работах иного рода. Особенно меня раздражало желание коллег приписать мне огульное осуждение советской действительности, ведь я писала и о проблемах отклоняющегося поведения. Тогда я обратилась к теории. Вообще, я считаю, что для историков полезна социальная теория в целом: будь то школа «Анналов» или беккеровская теория штампов. Это все дисциплинирует ум. Я обратилась к работам Дюркгейма, связанным с девиантологией, и поняла, что можно писать не только об отклонениях как таковых, но и о том, что является нормой, а что аномалией с точки зрения конкретного государства. Так в 1999 году появилась моя четвертая книга — «Повседневная жизнь советского города 1920–1930-е гг. Нормы и аномалии». Она была основана только на материалах Ленинграда и заканчивалась довоенным периодом. Книгу российское научное сообщество приняло в штыки. Вновь посыпались обвинения в «очернении советской действительности». Но на Западе мое исследование вызвало большой интерес, тираж был быстро раскуплен. И отчасти поэтому в 2015 году я вновь обратилась к проблемам норм и аномалий. В новой книге я поставила вопросы, которые ранее не освещала: в частности, проблему питания и выработки его особого стиля, действие норм и аномалии в сфере еды. Кроме того, я заметно расширила хронологию книги — она доведена практически до оттепели. То есть по сути это совсем новый труд: он почти в два раза больше предыдущего по объему и базируется на общероссийских материалах. Важным для себя как для исследователя я считаю утверждение, согласно которому отказ от демократических преобразований повседневности, характерных для 1920-х годов, произошел не в годы социалистического штурма начала 1930-х годов, а в контексте политики сталинского большого стиля, в конце 1930-х — начале 1950-х. Этот период в развитии советского общества можно рассматривать как своеобразную социально-бытовую девиацию.
То есть теория повседневности входит в список ваших интересов постольку-поскольку?
Конечно, я же не теоретик, а практикующий историк. С моей точки зрения, повседневность следует рассматривать как проблему быта и каких-то ситуаций, связанных с частным, но зависящих от публичного. Так я действую в своих работах. Еще как «ползучий эмпирик» я очень горжусь своим участием в деятельности первого российского исторического иллюстрированного журнала «Родина», который начал выходить в 1989 году. Он был рассчитан на публикации относительно популярных, то есть хорошо написанных статей, но всегда фундированных с помощью архивных материалов. Там я с 1995 года вела рубрику «Российская повседневность». Я находила интересных авторов, пишущих на эту тему, брала у них интервью, заказывала статьи и, естественно, сама писала. Там я обкатывала многие темы, которые впоследствии стала разрабатывать более серьезно.
 Наталья Лебина
Наталья ЛебинаКонец 1990-х годов для меня ознаменовался переходом к исследованию следующего исторического периода, который тоже показался очень интересным — это период хрущевской оттепели. Он был связан с моей жизнью, ведь всегда особенно любопытен диалог историка с источником, когда у историка есть еще и собственные бытовые практики. Я много работала в архивах, связанных с периодом 1960-х годов. А в 2003 году у меня вышла книга «Обыватель и реформы». Ее лейтмотив — поведение маленького человека в контексте больших реформ, в частности нэпа и хрущевских преобразований. В 2006 году я написала книгу «Энциклопедия банальностей. Советская повседневность: контуры, символы, знаки». Потом был год, когда у меня одновременно вышли три книги — между 2014-м и 2015 годом. Первая из них — «Мужчины и женщины. Тело, мода, культура. СССР — оттепель» — стала призером премии «Просветитель» за 2016 год.
У вас сейчас выходит новая книга…
Да, я захотела себе сделать подарок к семидесятилетию. В научной среде принято издавать сборники к юбилею ученого. Как правило, это такие братские могилы, где печатаются коллеги юбиляра. Но я решила просто опубликовать собственную новую книгу. Это своеобразный сборник статей о советском быте. Все эти статьи-этюды, а их двадцать семь штук, расположены в алфавитном порядке. У книги три задачи: первая — развенчать определенные мифы о повседневной жизни советских горожан, в частности, о «колбасных поездах»; вторая — приобщиться к методологии антропологических исследований, что редко делают историки-традиционалисты; третья — попытаться охарактеризовать советское общество и выяснить, было ли оно модерным или традиционным. Главная особенность книги — активное введение в научный оборот источников личного характера, материалов архивов моей семьи и собственных воспоминаний. А вообще об этом лучше поговорить после выхода книги. Это будет совсем скоро.