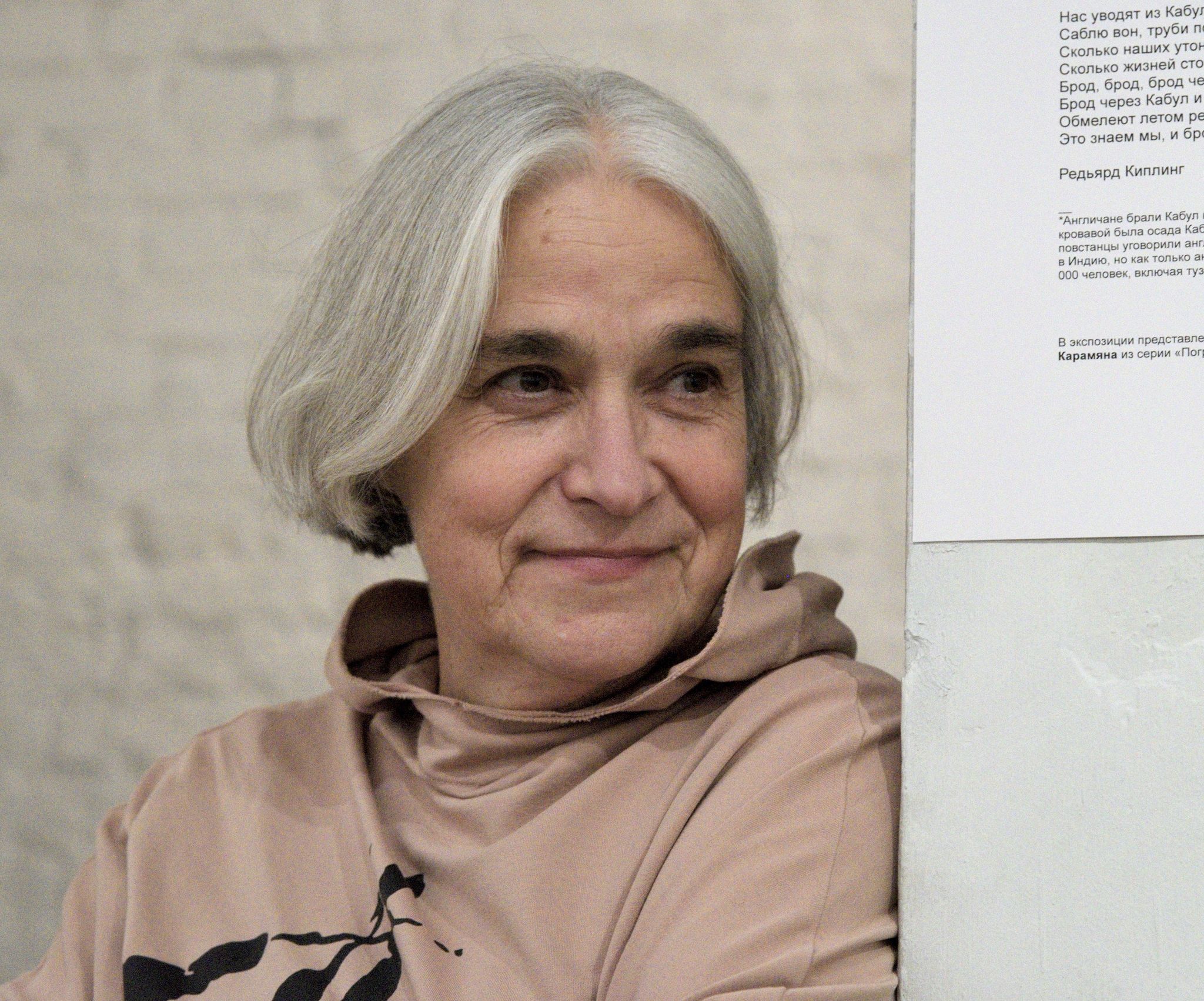«Органическая филология» Сергея Бочарова
Интервью с Ириной Сурат
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— Ирина Захаровна, давайте начнем с самого простого и одновременно самого сложного вопроса: кем был Сергей Георгиевич Бочаров и почему было решено переиздать его основные пушкиноведческие труды?
— Сергей Георгиевич Бочаров — замечательный филолог, оставивший большое наследие, своеобразный, узнаваемый в каждой фразе, тонкий исследователь очень разных литературных явлений — от Боратынского, Пушкина, Тютчева, Гоголя до Людмилы Петрушевской, Юза Алешковского, Андрея Битова.
Эта книга — первая после его смерти. Пришло время осмыслить все им сделанное, посмотреть на его тексты из сегодняшнего дня. Почему это осмысление начинается с Пушкина? Да потому, что Пушкиным он занимался всю жизнь, первая его пушкиноведческая статья «Форма плана» появилась в 1967 году и сразу привлекла к себе внимание, последние вышли уже после смерти автора.
Сергею Бочарову удалось сказать новое, существенное слово о «Евгении Онегине», о «Повестях Белкина» в целом и отдельно — о «Гробовщике» и «Выстреле», он выявил основную коллизию «Пиковой дамы» и описал «Маленькие трагедии» как цикл о столкновении героев принципа и героев жизни. Некоторые темы он развивал десятилетиями, расширяя и углубляя уже написанное, — так возникли ступенчатые статьи, в которых старый текст дополнялся по существу новым исследованием, так, например, статья о возможном сюжете Онегина 1987 года приросла через 12 лет теоретическим текстом о возможных сюжетах у Пушкина вообще, и тут уже речь идет о «Графе Нулине», о «Борисе Годунове», о возможных сюжетах в русской истории и снова о «Евгении Онегине». Небольшая статья про «маленькую ножку» и поэтику обращения у Пушкина писалась с разрывом в 40 лет, и в итоге в ней сказалось что-то важное про лирику и искусство вообще. Об устройстве и смыслах «Пиковой дамы» автор тоже думал много лет и написал три статьи об этой повести. А открывается сборник, как и первая пушкинская книжка Сергея Бочарова, знаменательной статьей о «свободе» и «счастье» в поэзии Пушкина — человеческое измерение литературы интересовало его прежде всего.
— По какому принципу были отобраны статьи для книги?
— Хотелось сделать сборник максимально полным, но все-таки некоторые работы по разным причинам в него не включены. Из-за повторов пришлось отказаться от одной из трех статей о «Пиковой даме» («В семантическом фараоне текста»), от статей «Заклинатель и властелин многообразных стихий» и «Пушкин и Гоголь („Станционный смотритель“ и „Шинель“)» — их мысли в значительно переработанном виде перешли позже в другие работы. Не попали сюда и комментарии, подготовленные Бочаровым для ряда массовых изданий прозы Пушкина. А главное — в сборник не вошла написанная нами совместно книжка «Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества» (первое издание — 2002 год), где он суммировал многие свои мысли о Пушкине. Но помещать книгу в книге мне показалось неправильным, да и по объему это вряд ли было возможно.
При этом в сборник включены работы о том, как прорастали пушкинские мотивы и образы в более поздней литературе, по преимуществу — у Достоевского, с которым Сергей Бочаров тоже не расставался всю жизнь. И тут тоже есть статьи, писавшиеся не один десяток лет: так, первоначальный вариант статьи «Праздник жизни и путь жизни. Сотый май и тридцать лет. Кубок жизни и клейкие листочки», опубликованный в 1975 году, перерос через два десятилетия в углубленное исследование пушкинских мифологем в литературе второй половины XIX-XX веков (Некрасов, Достоевский, Маяковский, Блок) в перспективе русской религиозной философии (С. Н. Булгаков). Вообще большая философская и историософская перспектива характерна для поздних работ Сергея Бочарова — разговор о внутреннем пространстве пушкинского «Выстрела» сопрягается с «мировыми движениями мысли», от Гераклита до Гадамера и Хайдеггера («Бездна пространства»), а соположение пушкинского «пустынного сеятеля» и «великого инквизитора» Достоевского приводит к вопросу о природе человека и к обсуждению путей русской истории.
Еще один раздел сборника составлен из статей о пушкинистике и пушкинистах. Открывает его большой историко-литературный экскурс «Из истории понимания Пушкина» — обзор и анализ того, как менялось восприятие и изучение Пушкина на протяжении двух веков. А дальше собраны отклики на современные автору пушкиноведческие события, включая и устные его выступления, и рецензии. Этот раздел погружает нас в общественные споры конца 1980-х — начала 1990-х годов, когда вопросы пушкиноведения обсуждались не менее горячо, чем вопросы общественного устройства. Здесь читатель найдет выступление в защиту «Прогулок с Пушкиным» А. Д. Синявского-Терца, методологическое рассуждение по поводу пушкинских книг Ю. Н. Чумакова, отклик на идею «тотального комментария» А. П. Чудакова.
— Кому, на ваш взгляд, будет интересна и полезна эта книга? Только ли специалистам-филологам или и простым читателям тоже?
— Те, кого вы называете «простыми читателями», часто очень непросты. Я знаю, что Сергея Бочарова читают люди, далекие от филологии, но умеющие оценить красоту мысли и качество филологического текста. Читать его работы интересно прежде всего потому, что в них на первом плане собственно гуманитарная составляющая нашего дела — это антропоцентричная филология, если можно так сказать. С. С. Аверинцев говорил, что понимание человека неустранимо из состава филологического знания, не все, я думаю, с этим согласны и так смотрят на филологию, но к работам Сергея Бочарова это относится несомненно.
Сам он неоднократно высказывался об особом положении филологии в ряду других гуманитарных дисциплин и о родстве филологии с предметом своего изучения. Он был глубоко убежден, что «литературоведение — это тоже литература и филолог — это писатель», говорил, что «язык филолога — ключевой вопрос филологии», и в своих работах избегал терминологии, в которой, как он считал, происходит упрощение и ослабление значений. Слово у него было не средством выражения готовых мыслей, а собственно инструментом филологического познания, он тщательно работал над собственным словом, писал свободно, гибко и сложно, стараясь передать весь объем мысли, иногда не договаривал, оставляя мысль открытой, чтоб она жила своей жизнью. И вот эти живые, открытые мысли — они и привлекают «непрофессионального», но заинтересованного читателя, потому что они питают, их можно додумывать, развивать...
Добавлю, что Бочарова особенно ценят и любят преподаватели литературы — не только вузовские преподаватели, но и учителя, которым его книги помогают что-то детям открывать в классике. Мне, например, в школе преподавали «Войну и мир» «по Бочарову», о чем я узнала значительно позже, когда сама прочла его знаменитую книжку о толстовском романе, выходившую в серии «Массовая историко-литературная библиотека».
|
И. З. Сурат. Фото: Давид Кислик |
— Сергей Георгиевич написал множество научных трудов, посвященных Пушкину. Предлагает ли в них он свой метод изучения творчества, а главное — идейного понимания Пушкина?
— Был такой замечательный филолог Владимир Федорович Марков, занимался в основном поэзией модернизма. У нас его мало знают, жил он в Америке, книги выходили по-английски... Так вот он говорил, что никакой метод не поможет, если нет инсайта от конкретного текста, который и надо развивать. Метод — это не инструмент, не отмычка на все случаи, а путь, который приходится каждый раз искать заново. Каждый раз необходимо изобретать новый метод в процессе работы, чтобы забыть его завтра, приступая к новому тексту.
И тут огромную роль играет интуиция, но работает она только в сочетании с полнотой знания, с профессионализмом в анализе текста. Интуитивизм и точность принято считать полюсами в филологии, но для Сергея Георгиевича здесь не было противоречия, он прекрасно соединял в себе эти полюса. Его точность — это точность филологического слова; если найдено точное слово — значит, поймана точная мысль.
Сергей Бочаров не примыкал ни к какой школе, не прислонялся ни к какой методологии, ему это было совершенно не нужно. Он всегда шел своим путем. Его часто называют учеником Бахтина. Это не слишком ответственные суждения. Он испытал личное влияние Бахтина, воспринял его большие идеи, был выбран им в наследники и свой наследный долг исполнил как никто — подготовил с коллегами и издал собрание сочинений, курировал вместе с другими наследниками все издания и переводы Бахтина. Тут он сделал все, что мог, но «продолжателем» и «бахтинистом» не был и характерной «бахтинистской» терминологией не пользовался.
Я бы назвала филологию Сергея Бочарова «органической» — по аналогии с «органической критикой» Аполлона Григорьева или органическим направлением в искусстве русского авангарда. Сам он нередко употреблял это слово, в частности в программной статье «О кровеносной системе литературы и ее генетической памяти», где некоторые явления литературы описываются и осмысляются при помощи большой естественно-научной метафоры — как явления природы, живого мира со своей генетической памятью. Сергей Георгиевич говорит в этой статье о «философии произведения как живого существа, напитавшегося соками культуры» — понятно, что такой организм живет по своим законам, не до конца поддающимся анализу и рациональной систематизации.
Вы спрашиваете об «идейном понимании Пушкина» — вот как раз против идейного присвоения Пушкина Сергей Георгиевич горячо возражал в своих немногочисленных полемических выступлениях; не будучи полемистом по натуре, он иногда бывал неожиданно резким в оценках и суждениях — защищая искусство от идеологии, он остро реагировал на расцветшее в какой-то момент явление, которое он называл «религиозной филологией», «православным литературоведением», «благочестивой пушкинистикой». Сам он видел в литературном произведении прежде всего эстетический объект и занимался преимущественно поэтикой Пушкина, открывая через поэтику пушкинские смыслы. Первая его книжка о Пушкине 1974 года так и называлась — «Поэтика Пушкина», что было по тем временам и ново, и смело.
— В соавторстве с Сергеем Георгиевичем вы выпустили не одну книгу, в том числе и упомянутую краткую биографию Пушкина. Расскажите, пожалуйста, о вашей совместной работе. Случалось ли так, что ваши взгляды расходились?
— Да, мы вместе сделали ряд изданий. Могу назвать книгу филолога Альфреда Людвиговича Бема «Исследования. Письма о литературе» (2001) — Сергей Георгиевич ее составил, вместе мы написали вступительную статью и комментарий, а до этого подготовили первую на тот момент в новой России публикацию нескольких работ Альфреда Бема о Пушкине в журнале «Вопросы литературы». Вместе мы работали над Ходасевичем: сначала в составе большой группы исследователей над собранием сочинений в четырех томах (1996-1997), потом издали несколько сборников поэзии Ходасевича. Последняя совместная работа — сборник памяти нашего товарища и коллеги Александра Павловича Чудакова (2013).
О биографии Пушкина могу рассказать подробнее. Она выросла из большой статьи «Пушкин», заказанной нам для биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917». Это совершенно великое издание, последний том которого, надеюсь, выйдет до конца текущего года. Нам нужно было уместиться в четыре авторских листа, мы написали 12, потом мучительно сокращали, а полный вариант решили издать книжкой, и судьба у нее оказалась счастливой — вышло несколько изданий приличным суммарным тиражом. У нас было разделение труда: я писала биографическую канву, лирику, общие вещи, Сергей Георгиевич взял на себя прозу, поэмы, драматургию. Если отвечать на вопрос о разногласиях — по существу их не было, разве что иногда мы по-разному чувствовали баланс между творчеством и жизнью в этом повествовании. Но в итоге все утряслось, все получилось. В самих же взглядах на Пушкина мы, как правило, совпадали.
— У Бочарова были разнообразные сферы научных интересов — творчество Пушкина, Боратынского, Гоголя, Достоевского, Леонтьева, Платонова, Сервантеса, Пруста и других русских и европейских писателей. Почему так получилось и как они у него совмещались?
— Ответ прост: он занимался тем, что любил, что было ему по-настоящему интересно. В изучении Платонова и Константина Леонтьева он стал, можно сказать, первопроходцем. Пруста любил, хорошо знал французский, мог оценить и скорректировать известный перевод. Ходасевича любил, но в какой-то момент немножко разлюбил. Еще любил Георгия Иванова и тоже написал о нем. Из поэтов, наверно, больше других любил Блока, однако писать о нем не стал.
— Сергей Георгиевич занимался исследованиями в условиях, когда наука была политизированной. Тогда очень немногие сумели написать по-настоящему стоящие работы. Как ему это удалось?
— В самых первых работах Сергея Бочарова чувствуется давление времени, но он очень быстро освободился от этого, оттолкнулся от идеологического советского литературоведения и вышел на собственный путь. Как ему это удалось, я не знаю, просто победил талант. Позже он осмыслил это и описал в предисловии к републикации первой своей онегинской статьи «Форма плана», описал хоть и скромно, но с пониманием того, какой прорыв в изучении Пушкина совершался тогда при его активном участии: «Время нового взгляда на Пушкина, поворота внимания открывалось тогда, в середине 60-х. А именно: на смену социологической эпохе и разрозненным сопоставлениям кусков романа с внешней действительностью приходила поэтика, и с ней — имманентное понимание пушкинского романа как организма. <...> Надо было начать рассматривать онегинский мир изнутри, чем все-таки пушкинознание неохотно занималось. Попытка была сродни тогда же начавшимся поискам структуральной поэтики, но сразу же рядом с нею наметились и иные, соседние, параллельные русла исканий — поэтики исторической и, скажем самонадеянно, феноменологической. <...> Хотелось вместе филологического и бытийного чтения пушкинского романа. Хотелось увидеть его не только как поэтический текст, но и как некий онтологический универсум...»
Тут ключевая формула — «вместе филологическое и бытийное чтение». Или «уясняющее чтение», как он потом формулировал. Казалось бы, именно этим филолог и должен заниматься, а все остальное — комментарий, текстология, биография, изучение историко-литературного процесса, теория — все это необходимо и ценно, но не само по себе, а как база для «уясняющего чтения». Однако, это мнение мало кто разделяет в нашей профессиональной среде.
И еще одно: Сергей Георгиевич настаивал на различиях между пониманием и интерпретацией: «Интерпретация есть самоутверждающееся понимание, имеющее тенденцию в своем самоутверждении более или менее пренебрегать (оставляя как бы его позади себя) предметом понимания. В литературоведении нашего времени интерпретация самоопределяется как автономная область порождения собственных смыслов, затем обратным ходом приписываемых тексту...» Так вот: интерпретациями Сергей Георгиевич Бочаров не занимался.
— И последний вопрос: зачем, в двух словах, сегодня читать Бочарова? Что он может дать нынешнему читателю?
— О так называемых простых читателях мы уже говорили, но особенно я бы рекомендовала читать Бочарова молодым начинающим филологам. Помимо того, что можно кое-что узнать и понять, можно еще и почувствовать планку, увидеть, какой может быть настоящая филология — содержательной, сложной и красивой.
* В начале материала: С. Г. Бочаров. Фото: И. З. Сурат