Опасные чудеса
Чтение в болезни как незабываемый опыт
Сергей Сдобнов, поэт, литературный критик, 28 лет
В начальной школе я увлекался книгой Эдуарда Успенского «Красная Рука, Черная Простыня и Зеленые Пальцы. Жуткий детский фольклор» (вот это издание). По сути, это обработанный городской фольклор — страшилки про Красную руку и Белую простыню. Особенно хорошо запомнился мне директор пионерского лагеря с фамилией Молоко: когда за ним пришли «сверхъестественные силы», то корреспондент, главный герой книги, получил телеграмму «Молоко скисло».
Главный герой книги в какой-то момент получил возможность видеть «сверхъестественное» и слегка двинулся умом: оказалось, что городское пространство просто кишело опасными явлениями. По небу летали Зеленые Глаза, в подворотню сворачивал гроб на колесиках, а по главной улице медленно проезжал автобус с черными шторками, пока у барной стойки сидела невеста с пятном крови на платье. Герой зашел к одной семье — кажется, даже к родственникам, — сел за стол и нагнулся, чтобы поднять вилку с пола. Столовый прибор лежал рядом с ногой соседа, точнее с копытом. Герой, сохраняя внешнее спокойствие, продолжил ужин: в это время в окне появилась голова зеленого козла.
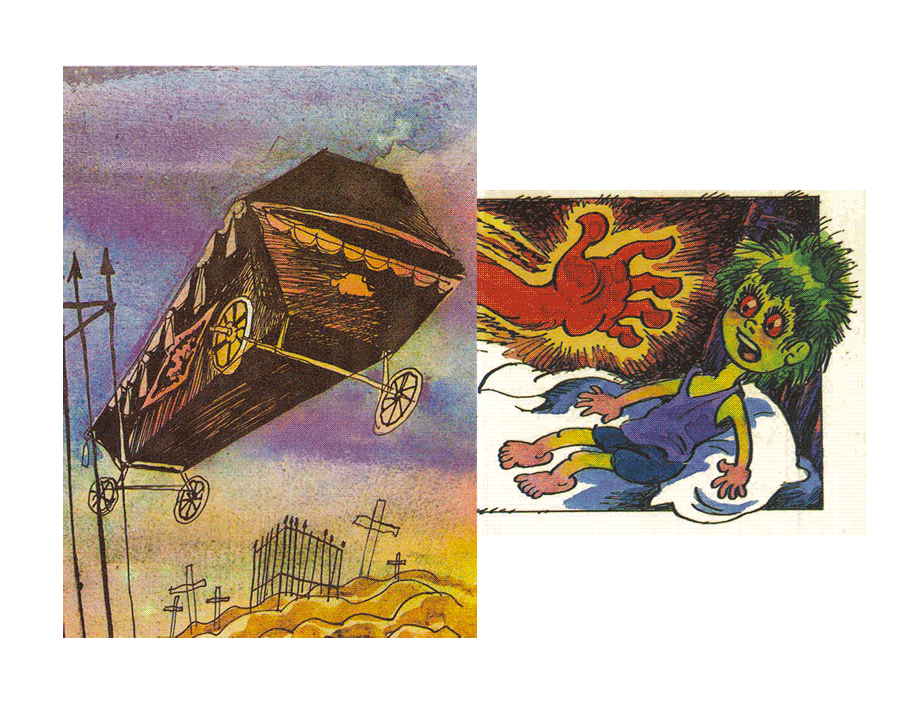
Когда мама уезжала по работе в Москву, а я оставался дома один, меня часто отправляли ночевать к другу в соседний дом. Как-то раз перед отъездом мамы я разболелся, но меня все равно решили к нему отвести. Спускаясь по лестнице вместе с мамой друга, я увидел на стене подъезда голову зеленого козла. Он подмигнул мне, а я шмыгнул носом и решил, что не буду делиться своими наблюдениями со взрослыми и даже с приятелем. Засыпая, я думал, что очень не хочется встретить куклу со стеклянными шариками — ничего хорошего это недолгое знакомство не предвещало. Но визуальным галлюцинациям я в детстве был рад: хотя бы таким образом в бандитскую повседневность Иваново проникали опасные, но в то же время робкие чудеса.
Мария Нестеренко, филолог, 27 лет
Мне было лет тринадцать, и я зачитывалась Стругацкими и прочей фантастикой — по этой же линии славные библиотекарши посоветовали мне «Дозоры» Лукьяненко. Я прочитала все, включая «Лик Черной Пальмиры» Владимира Васильева. Мне нравилось.
Учебный год уже начался, по дороге из музыкальной школы меня настиг ураган (такое периодически случалось в Таганроге, откуда я родом). Я зарулила в библиотеку, взяла там «Доктора Живаго», а потом завороженно наблюдала, как ветер носит за окном сорванный с крыши лист железа. Я добралась домой и, уставшая, устроилась на родительской кровати читать новую книжку. В память врезались слова о маленьком Живаго: «Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с этим чувством легкости и боялся потерять его», — помню их до сих пор. Я заснула с этой мыслью и вроде бы быстро проснулась, но на самом деле нет. Я очнулась в «сумерках», которые от обычного мира отличались ядреными цветами: комната была кроваво-красной, лампа огненно-желтой, люди двигались медленно, голоса звучали искаженно. Мне было сладко и страшно — наверное, как мальчику в обмороке из романа Пастернака. Подробности вылетели из головы, помню только цвета и замедленность действий. Я не понимала, чего от меня хотят окружающие: вроде бы это были родители, но я не могла объяснить им, что я в сумеречной зоне и что не надо меня трогать. Не помню, сколько это продолжалось, но внезапно я ощутила резкий запах уксуса, и, когда пришла в себя, выяснилось, что у меня началось воспаление легких, а родители провели у моей постели бессонную ночь.
Владимир Истленьев, продавец, 30 лет
Полтора года назад у меня диагностировали депрессию на границе тяжелой и средней степеней тяжести. В этом состоянии я перечитывал, кажется, в третий раз «Преступление и наказание» и впервые испытал симпатию к Аркадию Ивановичу Свидригайлову. Раньше он мне по привычке казался конченой мразью и символом безусловного зла. В этот же раз меня, по-видимому, чисто инстинктивно (учитывая мое состояние) расположило к нему то, что он таки «уехал в Америку». Причем ровно до того момента, как он это сделал, невозможно подумать, что вот этот раб собственной похоти, человек, казалось бы, незнакомый с муками совести, застрелится. Мне всегда был близок Раскольников со всей его нервозностью и прочей сопутствующей атрибутикой, я привык ассоциировать себя с ним. Но в этот раз мне был близок не истеричный Раскольников, а Свидригайлов с его спокойной болтовней, «анекдотцами», игрой с собеседником и т. п. Мне этого явно не хватало в тот момент. И, да, я не мог «уехать в Америку», а Свидригайлова ничего не держало. Признаться, я завидовал ему: меня тошнило от жизни, и в то же время она меня ежедневно ранила, а ему она, похоже, просто наскучила. До сих пор не покидает чувство, что Свидригайлов ушел не по своей воле — с ним разделался Достоевский. По крайней мере, я на месте Аркадия Ивановича действительно смотался бы куда-нибудь.
Через некоторое время лечение дало свои плоды, и мне стало значительно лучше. А еще через какое-то время мне переквалифицировали диагноз на биполярное аффективное расстройство. В это время (с полгода назад) я перечитывал уже «Братьев Карамазовых». С тех пор я не дочитал ни одной книги и до середины, а последние месяца три вообще не беру книг в руки. Все эти три месяца я нахожусь в состоянии мании, и меня не покидает определенное беспокойство. В таком состоянии тянет на разного рода подвиги, частенько деструктивного характера, и я все время боюсь скатиться к Мите Карамазову с его взрывным, импульсивным и хаотичным образом жизни, ведь куда это все приведет — неясно. То есть вполне даже ясно: в ад, разумеется.
Последняя на данный момент книга, которую я пытался прочитать, — «Беспокойный ум: моя победа над биполярным расстройством» Джеймисон Кей. Мне ее крайне рекомендовал мой хороший знакомый с таким же диагнозом, как и у меня. Поначалу чтение меня даже завлекло: Кей описывала близкие и знакомые мне состояния и эмоции. Важно читать такое, когда вокруг условно здоровые люди, которые тебя откровенно не понимают, а их советы сводятся к ничего не значащим фразам типа «будь мужиком» или «успокойся». Но потом автор книги зачем-то начала рассказывать о своем детстве, и это было настолько неинтересно, что на фразе «Мой папа был пилотом» я чуть ли не вслух сказал: «А мой в Афгане воевал, и че?» — и захлопнул книгу.
Вадим Момотов, лаборант-такелажник, 42 года
Однажды я сломал ногу и на костылях поехал из Москвы погостить к матери на Украину (она живет в деревне, километрах в двухстах от Киева), мне было тогда тридцать пять лет. Ночью мне ни с того ни с сего стало плохо: что-то с внутренними органами, никакие таблетки не помогали. Когда мать вызвала врача, я уже лежал в корчах и холодном поту. Приехала скорая, до больницы сорок два километра. По дороге мне вкололи ношпу и приложили к животу лед, боль стала утихать, но, когда мы добрались до места, выяснилось, что там в пятницу вечером уже начались выходные. Врачей нет, из лекарств предложили аспиринку и посоветовали полежать, подождать до понедельника. Я взял телефон, позвонил в Москву знакомому доктору-анестезиологу, и он командным тоном велел срочно возвращаться. Кряхтя-пыхтя, на костылях, я двинул на поезд. В поезде стало полегче, в Москве на вокзале встретили друзья, сложили меня вместе с костылями на заднее сиденье машины и отвезли в 68-ю больницу. Там сделали УЗИ и тут же отправили на хирургический стол — у меня было воспаление желчного в тяжелой форме, с уже начавшимся некрозом тканей. Лапароскопией отделаться не удалось, стали резать, причем разрез вышел какой-то неудачный, задели нерв, и он давал о себе знать потом целый год. В общем, лежа под капельницей в крайне подавленном состоянии, я стал перечитывать прихваченные с собой «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. И тут я понял, что до сих пор читал не того Шаламова — настолько мне вдруг удалось его прочувствовать, меня по-настоящему проняло. У него ведь тоже действие некоторых рассказов происходит в больнице, и вот там настоящий ад, а моя больница и мои страдания по сравнению с этим — ничто. «Расслабься, Вадик, — сказал я себе, — у тебя все отлично. Ну, подумаешь, нога сломана и дырка в животе». Такая вот оптимистичная книга.
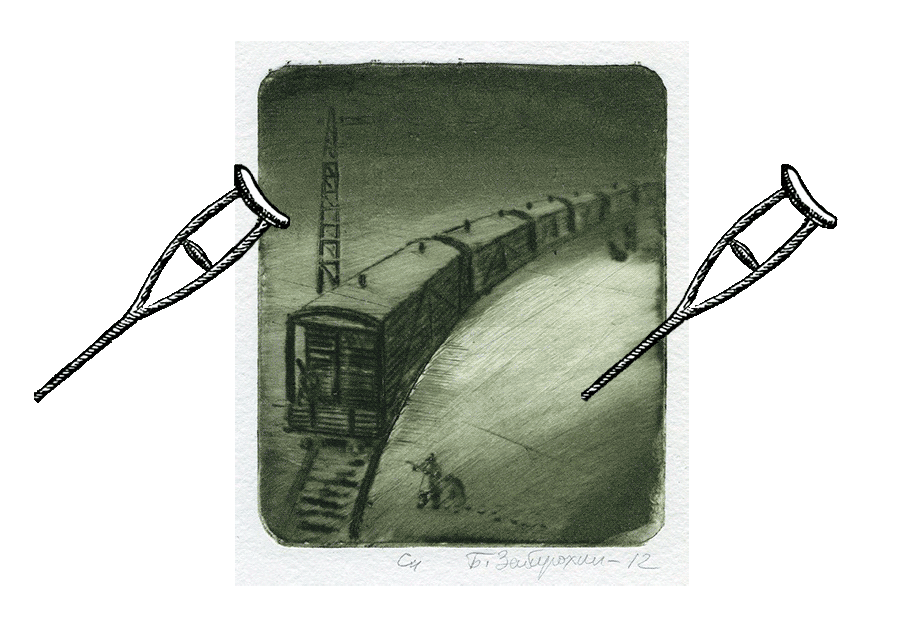
Анна Герасимова, литературовед, 37 лет
История такая. Был август, и мы с мамой отдыхали на море, под Сочи, снимали какое-то мелкое помещение у хозяев (зимнюю кухню, что ли). В середине отпуска погода испортилась: да что там испортилась, начались штормы, дикие ливни и ветра, местные речки вышли из берегов и неслись, пугая всех мутной водой. Ко всему я еще и заболела. У хозяев нашелся «Таинственный остров», и мне дали его почитать. Я засыпала над ним и просыпалась, путая время суток, в окно постоянно хлестал дождь, вода заливала стекла так, что не было видно соседнего домика. Я засыпала и просыпалась, сжимая в руке конфету, которую мне сунула жалостливая хозяйка. Конфета подтаяла в горячем кулаке. Я путала и время действия, и место, не зная, каменистый берег моря, заливаемый дождем, — это в книжке или наяву? Это герой романа мечется в жару или я?
Наконец, шторм прекратился, и мы вскоре уехали, как-то в спешке. А дома за завтраком я услышала по радио обращение ГКЧП, потому что это был август 1991 года.
Алексей Полихович, матрос запаса, 27 лет
На эскадренном миноносце «Адмирал Ушаков» в боевой части связи к декабрю 2011 оставались четверо срочников — остальные либо демобилизовались, либо слегли с простудой. «Караси» — молодое пополнение — приезжали на север неподготовленными, неумелыми. Утеплить ноги так, чтобы не мерзли пальцы, было попросту невозможно. В шинели задувало снизу, шарф-кашне был размером с платок. Со стороны выглядело круто, но всю эту роскошную черноту каждый из срочников с радостью променял бы на мешковатые штаны с прокладкой и гражданские куртки-альпаки с капюшонами и толстым слоем утеплителя, в которых ходили контрактники. Впрочем, те относились к нам с пониманием и давали попользоваться своей одеждой.
Я свалился с ангиной в третий раз за полгода службы. После этого срочников осталось трое. Через неделю заболел еще один — и их осталось двое. Палубу приходилось мыть контрактникам.
Любой военный корабль изнутри похож на разворошенный металлический муравейник, в проходах которого муравьи еле помещаются. Зато госпитальный корабль «Свирь», по размерам сопоставимый с «Ушаковым», на матроса Северного флота производил впечатление комфортабельного круизного лайнера. Коридоры были в два или три раза шире, практически как в нормальном общественном здании, крысы не пищали ночами напролет, а сотовая связь ловила даже со «шконаря».
 На Новый год мы сделали себе подарки: две пачки синего Pall Mall, два больших «Сникерса», бутылка кока-колы и журнал «Игромания». Все это за наши деньги принесла из магазина медсестра. В любом дисциплинарном учреждении нестерпимо хочется иметь журнал «Игромания». Хочется, потому что очень не хватает красок, особенно в полярную ночь и в закрытом военном городе. Книги в библиотеке «Свири» были: в большинстве своем советские издания без иллюстраций, с пожелтевшими, как пальцы от никотина, страницами. Пахли они казенно.
На Новый год мы сделали себе подарки: две пачки синего Pall Mall, два больших «Сникерса», бутылка кока-колы и журнал «Игромания». Все это за наши деньги принесла из магазина медсестра. В любом дисциплинарном учреждении нестерпимо хочется иметь журнал «Игромания». Хочется, потому что очень не хватает красок, особенно в полярную ночь и в закрытом военном городе. Книги в библиотеке «Свири» были: в большинстве своем советские издания без иллюстраций, с пожелтевшими, как пальцы от никотина, страницами. Пахли они казенно.
Потом «Игромания» надоела, а я начал выздоравливать. Температура спала, гланды сдулись, и теперь мне приходилось самому ходить на прогревание горла в другую часть корабля. Возвращаясь обратно в палату, я проходил мимо шкафа с книгами, исполнявшего роль местной библиотеки. Каждый раз я останавливался в надежде увидеть незнакомый корешок — так однажды мне на глаза и попалась книга Мануэля Скорсы с четырьмя названиями сразу: «Траурный марш по селенью Ранкас», «Гарабомбо-невидимка», «Бессонный всадник» и «Сказание об Агапито Роблесе».
Я утащил ее к себе и на два дня провалился в мир Хунинской пампы. Там все было примерно так: «Тогда и убедились все, что Гарабомбо — невидимка. Неспешно, величаво, словно бы в вечности, он шел прямо к жандармам, перекрывавшим площадь в Янауанке. По площади, в холоде и одиночестве, рыскали беспокойные псы. Двадцать жандармов, кутаясь в шинели под северным ветром, защищали спуск к реке Чаупиуаранга. Предвечернее солнце сверкало на их касках. Ничего не пугаясь, Гарабомбо шел к часовым. Общинники Чинче томились за углом. Видят его или не видят? Презирая пулемет на треноге, Гарабомбо дошел до солдат, сгрудившихся у поста…»
«Беззвучная война» Скорсы, а точнее четыре первые ее книги, рассказывала про борьбу перуанских крестьян за свою землю. Это было издание 1981 года с людьми в сомбреро на зеленой обложке. Люди в сомбреро и пончо, которые для них вязала старушка-предсказательница, каждую книгу готовили восстание против зажравшихся судей, солдат и чиновников. Где-то им помогали индейские суеверия, где-то — смекалка предводителей, но чаще не помогало ничего. Бунтовщики гибли и попадали в тюрьму, старушка вязала новые пончо — новые бунтовщики принимались готовить свой мятеж. Пятой книги в библиотеке не было, поэтому узнать, чем все закончилось, я не мог. Но в четвертой части бунтовать у крестьян получалось намного лучше, чем в первой, это точно (хотя в третьей многих расстреляли из пулеметов).
Иван Мартов, редактор, 35 лет
В третьем или четвертом классе я свалился с ветрянкой и, не обращая особого внимания на эту довольно неприятную болезнь, занялся тем же, чем и всегда: стал читать. Думаю, за «Вия» я взялся просто потому, что добил к тому времени «Тараса Бульбу» — во всяком случае, я понятия не имел, о чем там речь (и, кроме того, плохо представлял себе, что такое высокая температура, как-то не доводилось прежде сталкиваться). В общем, когда я добрался до финальной сцены в церкви, температура у меня была за 38, под потолком кружил гроб с панночкой, а из всех углов комнаты лезли адские демоны, но отложить книгу я, разумеется, так и не смог. С тех пор у меня в памяти периодически всплывает страшная фраза «Ось сусулька! паничи, купите сусульку!», творчество писателей вроде Стивена Кинга или Лавкрафта кажется мне милой нелепостью, а посмотреть знаменитый советский фильм «Вий» я так до сих пор и не собрался.

Мария Яковлева, копирайтер, 32 года
Я не люблю читать, когда болею, потому что обычно очень живо представляю себе то, что описывает автор. А когда болею, что бы ни читала — учебник по философии, художественную литературу, — почему-то упорно вижу лестницу своей школы, ведущую со второго этажа к выходу. И герои книг катаются по перилам вверх и вниз. Получается как в игре «Не думай о розовом носороге». Чем упорнее стараешься о нем не думать, тем сильнее он лезет в голову. И по этой лестнице у меня кто только ни катался.
На самом деле, если читаешь Пратчетта, это несильно сбивает с толку. Такой своеобразный бонус к безумному Плоскому миру. А вот с классикой хуже. Читаешь, к примеру, «Грозовой перевал», момент какого-нибудь дежурства Хитклифа, и тут такая нестандартная картинка. Или «Рождественские рассказы» Диккенса. Темная холодная комната, явление призрака, а он стоит не над душой грешника, вразумляя его и заставляя подобреть, а катается по перилам. Прямо с цепями. И грохотом.
Почему именно так — не знаю. Началось это после школы, с этой лестницей никаких особых плохих или хороших впечатлений у меня не связано, воспоминаний — тоже.
Алексей Стрельников, журналист, 29 лет
Был март 2016 года. Во время срочной службы в армии я пролежал в госпитале с гриппом около месяца. В первые дни было не до чтения, не до разговоров: температура — 39. Хватало только на то, чтобы поднять глаза и прочесть этикетку на капельнице. Но когда начал «остывать», мозг закипел от скуки. Госпиталь — военная территория, там нельзя пользоваться гаджетами, могут отобрать. Нас вразумляли: телефоны, мол, могут выдать наше расположение противнику. А в книгах начальство врага не видело.
В госпитале была своя библиотека, но ужасная. Со всякими бульварными романами в огромном количестве, почему-то запомнились «Бандитский Петербург» и «Адвокат», к которым абсолютно не хотелось прикасаться. Вся эта литература вдохнула в себя 1990-е. Тогда я начал читать книжки, которые привезла моя девушка. Я позвонил ей, она перечисляла то, что было на полке, и я говорил: «Да, вот это и вот это».
Тяжелее всего шел «Сахалин» Власа Дорошевича. Его персонажи находились в такой же незавидной ситуации, как и мы. Там было много заключенных, лечили людей из рук вон плохо, и они дохли как мухи. Хотелось настроиться на позитивный лад, поэтому по «Сахалину» я пробежался галопом. Тогда на выручку пришла другая книга — «Мастер и Маргарита». У Булгакова оздоровлять выходило лучше. Абсурдный мир армии и советская бюрократическая система очень созвучны — наверное, потому, что одно появилось из другого. Помню, какая сцена показалась мне особенно яркой. Поэт Бездомный находился в лечебнице, и обстановка у него была похожа на нашу.
Религиозные сюжеты сначала безумно затягивали, я пару раз пропускал полдник, когда нам давали соки и булочки: по-армейски — деликатесы. Но самочувствие улучшалось, и вопрос о том свете ушел на второй план. Главная интрига развивалась вокруг событий в Москве. В голове крутилось множество вопросов, но обсудить их с соседями по палате не выходило: их больше волновали цифровой мир и необходимость скрывать, что пользуешься телефоном. В качестве ширмы использовали книги (не гнушались раскрыть и устав). Единственное, что могло их выдать, — книги всегда были раскрыты на одних и тех же страницах.