Очень одинокий кусок мела
К столетию Юрия Михайловича Лотмана
Борис Ефимович Гройс, философ, искусствовед, профессор Нью-Йоркского университета
 В отличие от многих моих знакомых, я не был лично знаком с Лотманом, не бывал в Тарту и только несколько раз слушал его лекции в Питере и Москве.
В отличие от многих моих знакомых, я не был лично знаком с Лотманом, не бывал в Тарту и только несколько раз слушал его лекции в Питере и Москве.
Одна такая лекция мне особенно запомнилась. Дело было в Москве в конце 1970-х годов, в довольно небольшой аудитории Лотман стоял у доски, держа в руке длинный кусок мела. В какой-то момент он посмотрел на него и сказал: вот этот кусок мела — он чувствует себя в мире очень одиноким, ему не с кем поговорить. После этого Лотман разломил мел на две части и, показав аудитории два куска мела, сказал: а вот теперь этих мелков двое и они могут начать диалог друг с другом.
Надо сказать, что тогда эта сцена меня сильно впечатлила. Я подумал, что если бы эти мелки действительно обладали сознанием и речью, то этот слом был бы очень болезненным для них. Здесь возможность диалога возникла в результате вмешательства внешней, трансцендентной, но не духовной или, скажем, божественной, а чисто материальной силы — применения прямого физического насилия. И я подумал, что эта сцена как-то выпадает из общего мирного характера структурализма. Много лет спустя, когда я читал «Культуру и взрыв» Лотмана, я вспомнил эту сцену. Вся книга посвящена внешним, чисто материальным, силовым воздействиям на культуру — таким, как болезнь, смерть, природные катастрофы, войны и революции. В результате культура определяется не столько приобретениями, сколько утратами — притом что различие между реализованными и нереализованными возможностями культуры оказывается делом случая.
Поэтому Лотман для меня занимает особое место в русской семиотической традиции. Мне трудно вспомнить другой русский теоретический текст, в котором так настойчиво тематизируется внекультурная природа мира и человека. Обычно тема зависимости культуры от внекультурных, природных сил ассоциируется с ницшеанской традицией в философии XX столетия, и прежде всего — с работами Жоржа Батая или Жиля Делёза. Несмотря на сдержанный тон, в котором написана «Культура и взрыв», она представляeтся мне близкой по духу к этим самым радикальным текстам в литературе прошедшего века.
Олег Андершанович Лекманов, литературовед, профессор ВШЭ
 Для меня Лотман — главный (вместе с С. С. Аверинцевым, М. Л. Гаспаровым и А. В. Михайловым) русский филолог второй половины ХХ века. Комментарий Лотмана к «Евгению Онегину» — первая филологическая книга, мною с жадностью прочитанная (до сих пор помню, как школьником покупал этот комментарий в «Доме педагогической книги» в Камергерском переулке). Я не просто ценю, а очень люблю многие работы Лотмана, особенно историко-литературные — от биографии Пушкина и «Сотворения Карамзина» до крохотной, но абсолютно замечательной заметки «К проблеме работы с недостоверными источниками». Увлекательный сюжет, ясность языка, новаторский взгляд на предмет исследования — вот отличительные приметы книг и статей Лотмана.
Для меня Лотман — главный (вместе с С. С. Аверинцевым, М. Л. Гаспаровым и А. В. Михайловым) русский филолог второй половины ХХ века. Комментарий Лотмана к «Евгению Онегину» — первая филологическая книга, мною с жадностью прочитанная (до сих пор помню, как школьником покупал этот комментарий в «Доме педагогической книги» в Камергерском переулке). Я не просто ценю, а очень люблю многие работы Лотмана, особенно историко-литературные — от биографии Пушкина и «Сотворения Карамзина» до крохотной, но абсолютно замечательной заметки «К проблеме работы с недостоверными источниками». Увлекательный сюжет, ясность языка, новаторский взгляд на предмет исследования — вот отличительные приметы книг и статей Лотмана.
Конечно, очень важно, что Лотман был не только гениальным филологом, но и великим организатором науки (такое сочетание встречается редко), поэтому влияние Лотмана на мои, например, работы — это еще и влияние школы Лотмана, учеников Лотмана. Фамилии называть не буду, многие из этих учеников, слава Богу, живы и не любят, когда пресса подымает вой вокруг их имен.
А еще огромное влияние на меня оказала сама личность Юрия Михайловича Лотмана, которого мне посчастливилось увидеть и услышать один раз — в декабре 1991 года. Мы приехали в Тарту с учениками лицея, где я тогда работал, опекал нас Роман Григорьевич Лейбов, а лекции прочли Лариса Ильинична Вольперт, Михаил Юрьевич Лотман и Юрий Михайлович Лотман. Он рассказывал о «Маленьких трагедиях» Пушкина, это было волшебно, и я, помню, спросил Юрия Михайловича, довелось ли ему видеть такую интерпретацию «Маленьких трагедий», которая бы его устроила. Лотман резко высказался о фильме «Моцарт и Сальери» со Смоктуновским и Глебовым и достаточно иронически — о фильме Михаила Швейцера. А похвалил он спектакль по «Маленьким трагедиям», поставленный Псковским драматическим театром имени Пушкина. И теперь я каждый раз, когда оказываюсь в Пскове и иду мимо этого театра, вспоминаю свой вопрос и ответ Юрия Михайловича.
Александр Львович Доброхотов, философ, культуролог, профессор ВШЭ
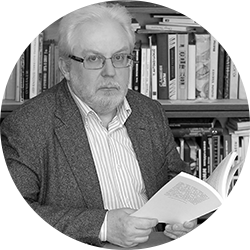 Говорить о гуманитарном знании — особенно в юбилейном свете — непросто. В выражении «гуманитарная наука» есть скрытый оксюморон: примирение интеллекта и интуиции требует специальных усилий. Вполне естественно, что гуманитарная наука хочет быть наукой. Но все же не настолько, чтобы утратить «гуманитарность». Семиотике это превращение в науку почти удалось, но сейчас, когда она — признаемся — забыта (или, во всяком случае, вышла из моды), видны пределы этой сциентистской утопии.
Говорить о гуманитарном знании — особенно в юбилейном свете — непросто. В выражении «гуманитарная наука» есть скрытый оксюморон: примирение интеллекта и интуиции требует специальных усилий. Вполне естественно, что гуманитарная наука хочет быть наукой. Но все же не настолько, чтобы утратить «гуманитарность». Семиотике это превращение в науку почти удалось, но сейчас, когда она — признаемся — забыта (или, во всяком случае, вышла из моды), видны пределы этой сциентистской утопии.
В сегодняшнем мире научных институций считается очевидным, что гуманитаристике нужна научная методология; во всяком случае в автореферате ее обязательно надо предъявить. Да, конечно, есть требования общенаучной рациональности (запрет противоречий; различение фактов и интерпретации; необходимость аргументации и т. п.), но, когда речь заходит о Методе с большой буквы, возникает проблема. Ведь ретроспективно мы видим, что гуманитарная методология — это «суп из топора»: в историческом финале ее можно выбросить, оставив результаты, и окажется, что самое интересное рождено не методом, а талантом ученого, открытиями которого потому могут пользоваться не только «правоверные» адепты доктрины, но и «еретики».
С другой стороны, не будь провоцирующей доктрины, не было бы и счастливых находок. Отечественная семиотика возникла в атмосфере отвращения к идеологии и тоски по научности: все составляющие этого процесса описаны в мемуарах его участников. Довольно быстро выяснилось, что группа ученых, «закваской» которой была московско-тартуская школа, скреплена семиотически методом лишь отчасти, если не вообще чисто номинально: их объединяли всего несколько ключевых концептов и небольшой набор терминов. Ясно, что семиотика никак не могла обойтись без семантики, синтаксиса, прагматики, морфологии... Но тогда — почему семиотика? Ведь в Советском Союзе в конкуренции с такими серьезными гуманитарными «сектами» 1960-х, как герменевтика, психоанализ, феноменология, рецептивная эстетика и т. п., победила именно она.
Мне кажется, что секрет успеха виден по судьбе кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ. В начале 1990-х там собралось феерическое созвездие больших ученых: Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, С. С. Аверинцев, Г. С. Кнабе, Е. М. Мелетинский, А. Я. Гуревич, М. Л. Гаспаров, Б. А. Успенский, Н. И. Толстой, Н. В. Брагинская, В. В. Бибихин, М. И. Свидерская, В. В. Вертоградова, В. Н. Романов... (трудно прервать перечень). Излучения Тарту и обаяние Лотмана в работе кафедры ощущалось с очевидностью, но кажется, что семиотика была ведущим методом только для Иванова и Успенского, хотя все пользовались ее тезаурусом и владели ее лексикой. Авторитетны были не только имена Лотмана, опоязовцев и Якобсона, но и Бахтина, Выготского, Фрейденберг, Лосева, не имевших отношения к структурализму. В журнале «Мировое древо», неофициальном органе этого коллектива, влияние семиотики было заметнее, но и там спектр методов был намного шире структуральных. Тайна семиотической доминанты — не в структуралистской безликой «научности» и не в ее наивных биномах. Дело в том, что эпоха требовала наладить межкультурный и междисциплинарный диалог, и тартуская семиотика позволяла работать в таком режиме, двигаться именно в этом направлении, перебрасывая мостики между филологией, историей, математикой, нейрофизиологией, космологией, теологией. В значительной мере пространство трансдисциплинарной коммуникации было успешно создано благодаря личной харизме «семиотиков». И здесь имя Ю. М. Лотмана должно быть среди первых.
По сути он был — от начальных публикаций до последних — историком культуры. Семиотика была лишь той исторически обусловленной «рифмой» к его поискам метода, которую он блестяще превратил в метод декодирования языков культуры. По итоговой композиции «Внутри мыслящих миров» хорошо видно, как Лотман движется от доктринальной семиотики к классической философии культуры и истории. На этой поздней стадии «бинарные оппозиции» не так уж нужны: они становятся вечной гераклитовской тайной лука и лиры, хотя и структурализм (ведь это «логос», в конце концов) тоже находит себе место. В последнем шедевре — «Культура и взрыв» — Лотману удается, как и положено по-настоящему большому уму, «впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту». И здесь — особенно в противопоставлении бинарных и тернарных структур или в теме «непонимания» — чувствуется некая необязательность семиотики; не то чтобы отрицание, но — свобода автора от собственного учения.
В культуре есть Учения и Учители. Так уж получается, что в гуманитаристике Учители оказываются важнее Учений, в истории они живут дольше и тем самым сохраняют и жизнь своих учений. Поэтому юбилеи Ю. М. Лотмана будут присно отмечаться, как бы ни менялись интеллектуальные моды.
Валерий Игоревич Тюпа, литературовед, профессор РГГУ
 Роль Ю. М. Лотмана в развитии отечественной и мировой гуманитарной науки, конечно, огромна. Напомню хотя бы почтительное отношение к нему Умберто Эко или то, что Поль Рикёр, приступая к философской рефлексии нарративных практик («Время и рассказ»), опирался, по его признанию, «на уроки Бахтина и Лотмана».
Роль Ю. М. Лотмана в развитии отечественной и мировой гуманитарной науки, конечно, огромна. Напомню хотя бы почтительное отношение к нему Умберто Эко или то, что Поль Рикёр, приступая к философской рефлексии нарративных практик («Время и рассказ»), опирался, по его признанию, «на уроки Бахтина и Лотмана».
Лично для меня это сочетание имен — ключевое, поскольку мой «путь в науку» определяли именно эти два персонажа в их разности и взаимодополнительности. В студенческие годы откровением стала дискуссионная статья Лотмана в «Вопросах литературы», призывавшая литературоведение «быть наукой» несмотря на то, что оно изучает искусство. Ведь ихтиологу в своих исследовательских усилиях не приходится «становиться рыбой». Самая первая моя (студенческая) публикация называлась «Структура повествования „Дамы с собачкой“». Я и до сих пор увлекаюсь нарратологическим анализом текстов, но уже не как структуралист. Теперь для меня анализ структуры — лишь способ проникновения к «эстетическому объекту» произведения (в бахтинском его понимании). Однако базовый научный критерий воспроизводимости результата, если анализ проведен корректно, и до сих пор остается для меня по-лотмановски незыблемым.
Второй мощный методологический толчок от Лотмана принесла его работа 1973 года «Происхождение сюжета в типологическом освещении». В отличие от классического французского структурализма, игнорировавшего историзм, Лотман никогда не переставал оставаться глубоким, фундаментальным историком. Этим научным интересом были оплодотворены и его теоретические воззрения. Сейчас я с группой более молодых коллег занят разработкой проекта исторической нарратологии (современная западная нарратология за редкими исключениями сугубо теоретична, чтобы не сказать схоластична) и могу утверждать, что названная статья Лотмана наряду с работой О. М. Фрейденберг «Происхождение наррации» является подлинным истоком нашего проекта.
Наконец, может быть, главный эффект «феномена Лотмана» состоит в его моральном облике истинного и бескомпромиссного ученого классической, не «постмодернистской» складки.