«Обыкновенная жизнь, испытание жизнью…»
К столетию со дня рождения Юрия Трифонова
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Юрий Трифонов родился 28 августа 1925 года в семье старого большевика, революционера Валентина Трифонова. В середине 1920-х Трифонов-старший был председателем Военной коллегии Верховного суда СССР. Позже он занимал должности поскромнее, но все же в 1932-м получил квартиру в знаменитом Доме на набережной. Однако прожил в ней недолго: летом 1937 года Валентина Андреевича арестовали по обвинению в троцкизме, а в марте 1938-го расстреляли.
«Мне было одиннадцать лет, когда ночью приехали люди в военном и на той же даче, где мы запускали змеев, арестовали отца и увезли. Мы с сестрой спали, отец не захотел будить нас. Так мы и не попрощались. Это было в ночь на 22 июня 1937 года».
Профессией литератора Юра Трифонов заинтересовался рано. В девять лет он начал вести дневники, и к этому же времени относится его первая проба пера — рассказ «Воздушный слон». Дневник сохранил его начало:
«Это было в Америке в городе Денвере. Джим шел в харчевню он шел и мечтал вдруг под ногами земля расступилась и он попал к воздушному слону».
Потом были другие рассказы — например, в 12 лет Трифонов закончил «Диплодока», занявшего несколько тетрадей. Уже тогда ему пришлось столкнуться с муками творчества. Февралем 1938 года датируется такая вот дневниковая запись:
«Я хочу простой, юмористический рассказ, а не всякую там галиматью про Диплодоков… и прочую чертовщину. Просто простого рассказа! Вот чего я добиваюсь».
С ноября 1938 года Юра посещал в Доме пионеров литературный кружок, который возглавлял главный редактор журнала «Пионер» Беньямин Ивантер. Неизвестно, долго ли Трифонов ходил на занятия, но пользу в них он находил. «Товарищ Ивантер так интересно объяснял нам ошибки друг друга. Это была действительно школа, у которой многому можно было научиться», — читаем в дневнике.
В 1944-м Юрий Трифонов поступил в Литературный институт имени Горького. Любопытно, что документы он подал на отделение поэзии, представив три тетрадки стихов и рассказ в «довесок». Однако лирика Трифонова впечатления на приемную комиссию не произвела. А вот рассказ понравился — приняли будущего писателя на отделение прозы.
В 1948 году Трифонов публикует свои первые рассказы. Событием их появление не стало. Известность Трифонову принесла напечатанная в 1950-м повесть «Студенты», позже «повышенная» до романа. При ее написании он во многом опирался на впечатления и опыт собственной студенческой жизни — хотя и перенес место действия из Литературного института в педагогический. В описаниях героев и случаях из их жизни узнаются детали биографии самого Трифонова. Вот, например, эпизод, описывающий заседание литературного кружка на заводе:
«Но я вам говорю, — и Вадим вдруг встал и даже ударил ладонью по столу, — что Батукин будет писать стихи! И настоящие стихи!»
А вот случай из жизни самого писателя: когда на семинаре у Константина Федина студенты обрушились с критикой на рассказ Трифонова, учившегося тогда на первом курсе, Федин с яростью стукнул кулаком по столу:
— А я вам говорю, что Трифонов писать будет!
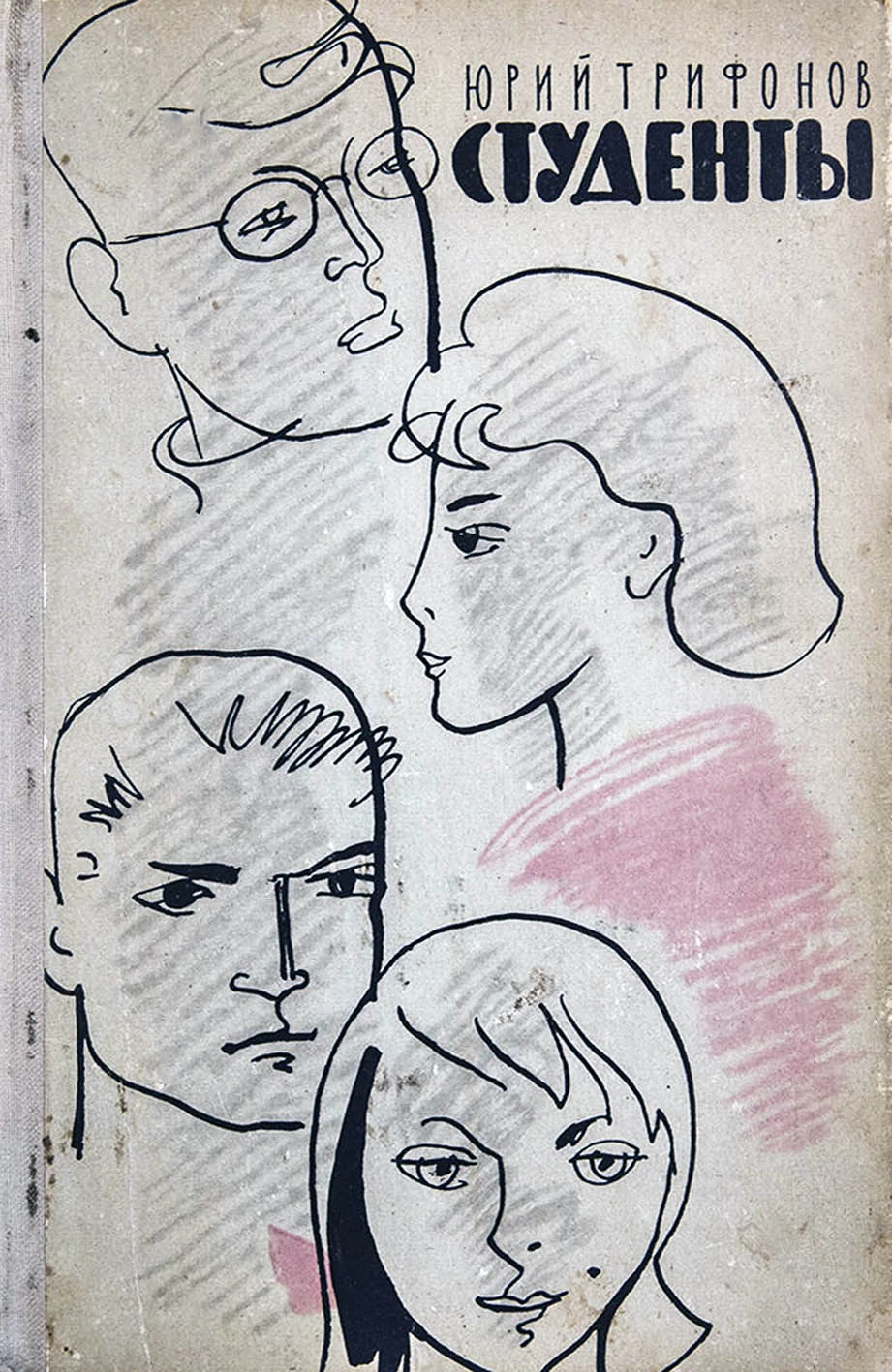
Автора «Студентов» нельзя было упрекнуть в отсутствии литературных способностей. Но очень уж плакатной получилась книга, слишком шаблонно разрешались конфликты между ее героями. И отставшего от жизни профессора Козельского, читающего лекции скучно, казенно, избегая острых вопросов, критикуют на ученом совете за формализм и отрыв от современности и увольняют из института. И зазнавшийся карьерист и индивидуалист Палавин после проработки на комсомольском собрании многое переосмысливает и понимает, что не может жить «без людей, без коллектива». И директор завода Медовский, узнав о бюрократах, зажимающих изобретение молодого рабочего Солохина, мгновенно проникается ситуацией и обещает завтра же разобраться в вопросе. Нередко Трифонов сбивался в «Студентах» на назидательность, многословие и чрезмерный пафос.
«Окончился радостный день труда. Разве он не был радостным? Разве не испытали эти люди, и он вместе с ними, настоящую радость оттого, что добровольно пришли на стройку и работали честно, до усталости, до седьмого пота в этот холодный декабрьский день? Разве не испытали они самую большую радость — радость дружбы, радость одного порыва и одних стремлений для каждого и для всех?»
Мудрый Илья Эренбург, прочитав «Студентов», заметил: «Автор весьма талантлив, но я хотел бы надеяться, что он когда-нибудь пожалеет о том, что написал эту книгу». Примерно так и получилось: много лет спустя сам Трифонов назвал повесть «незрелой и ученической». Однако в каноны соцреализма она вписалась, принеся 25-летнему автору, вчерашнему студенту, Сталинскую премию III степени, на которую тот купил автомобиль «Победа» (и еще остались деньги). В последующие три года вышло несколько отдельных изданий «Студентов»; повесть перевели на десяток с лишним иностранных языков, а художественный руководитель московского театра имени Ермоловой Андрей Лобанов поставил по ней спектакль.
Такой яркий дебют провоцировал завышенные ожидания: «Нина думала, что я буду получать премии каждый год», — иронически заметил Трифонов о своей жене. Однако новый успех пришел не скоро. Трифонов задумал роман о строительстве Главного Туркменского канала, но работа шла медленно: сам писатель объяснял это тем, что его «отвлекали великие пустяки жизни». Да еще и смерть Сталина спутала ориентиры: «писать по-старому было неинтересно, писать по-новому еще боялись, не умели и не знали, куда все это повернется». Константин Ваншенкин вспоминал: «он писал свой роман трудно, со скрипом, словно азиатский песок забивал его ручку и машинку». Работа над романом заняла десять лет. Оставшиеся от премии деньги кончились гораздо быстрее; «Победу» пришлось продать.
Роман, названный в итоге «Утоление жажды», был отчасти автобиографичен. Причем Трифонов заложил в него более глубокую рефлексию, чем в «Студентов». Читатель тех лет мог и не знать деталей биографии Трифонова, но сегодня мы понимаем, что откровение главного героя романа, журналиста Корышева, следует воспринимать как исповедь самого писателя:
«Ни с кем я тут не делился, не откровенничал и вообще не люблю говорить об этом — так же, как ашхабадцы о землетрясении, — и вдруг с этим стариком, которого вижу второй раз в жизни, меня разобрало. Я стал рассказывать об отце, о своей жизни без него и без матери, о том, как я воспитывался у тетки, и это было несладко, но все же лучше, чем детский дом, о том, как мытарился после университета».
Роман вышел добротным: так, Дмитрий Быков (признан властями РФ иноагентом) полагает, что он «написан на порядок лучше тогдашней реалистической прозы». Встречаются, правда, и иные мнения — мол, «Утоление жажды» «не удалось», производственная тема в романе оказалась «несколько схематична», а Трифонов «еще не умел сладить с развертыванием нескольких повествовательных планов». Я бы поспорил.
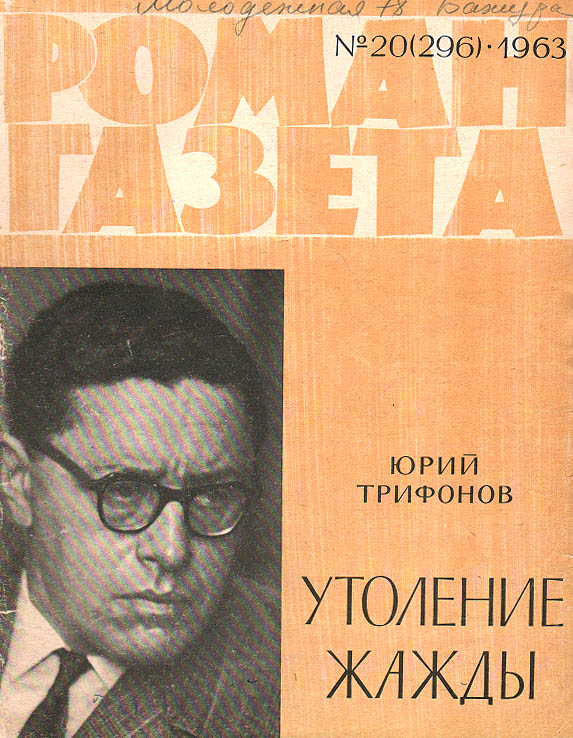
«Утоление жажды» было производственным романом, выдержанным, как и «Студенты», в духе соцреализма. Но разница между первыми двумя трифоновскими книгами заметна невооруженным глазом. Во-первых, в «Утолении» почти не встречается неуместный пафос, в который периодически скатывался автор «Студентов». Меньше шаблонности стало в изображении ситуаций и характеров. За десять с лишним лет Трифонов отточил мастерство и научился писать лаконичные портреты героев.
Кроме того, в «Утолении жажды» Трифонов нащупал приемы, которые впоследствии использовал во многих других книгах. Одним из них было «переключение» между двумя рассказчиками, благодаря которому герои и события становились объемнее, будучи показанными читателю с разных ракурсов. Другим стало обращение к истории: основное действие романа происходит в 1957-1958 годах, но биографии героев периодически отсылают нас к событиям 1930-х. Обсуждение на страницах книги репрессий и начавшегося после смерти Сталина восстановления исторической справедливости придавало названию романа двойной смысл. Утоление жажды — это не только строительство канала, который даст пустыне воду: речь здесь и про жажду правды, справедливости, перемен в жизни страны. Впрочем, здесь Трифонов лишь немного прикоснулся к этой теме.
После «Утоления жажды» тема истории и ее связи с современностью, течения времени и невольного участия человека в этом процессе стала для Трифонова одной из главных. Позже он так определял свою творческую задачу:
«Увидеть, изобразить бег времени, понять, что оно делает с людьми, как все вокруг меняет… Время — таинственный феномен, понять и вообразить его так же трудно, как вообразить бесконечность… Но ведь время — это то, в чем мы купаемся ежедневно, ежеминутно… Я хочу, чтобы читатель понял: эта таинственная „времен связующая нить“ через нас с вами проходит, что это и есть нерв истории».
Почти во всех его последующих книгах действие разворачивается сразу в нескольких временны́х пластах: тот самый нерв истории связывает современность то с 1930–1940 годами, как в «Доме на набережной», то с временами революции и Гражданской, как в «Старике»… А где человек на фоне исторических событий, там — судьба. К трифоновскому творчеству удивительно подходят строки Бориса Слуцкого:
История над нами пролилась.
Я под ее ревущим ливнем вымок.
Я перенес размах ее и вымах.
Я ощутил торжественную власть.
<…>
Клеймом судьбы помечены столбцы
анкет, что мы поспешно заполняли.
Судьба вцепилась, словно дуб, корнями
в начала, середины и концы.
К середине 1960-х в советской литературе оформилось такое направление, как деревенская проза. Трифонов же стал основоположником прозы городской. В интервью «Литературной газете» он объяснял:
«Мне хочется как можно более многообразно и сложно изобразить тот огромный слой людей средней интеллигентности и материального достатка, которых называют горожанами. Это не рабочие и не крестьяне, не элита. Это служащие, работники науки, гуманитарии, инженеры, соседи по домам и дачам, просто знакомые. Я пытаюсь показать людей в разных аспектах. „Схватываю“ их в момент, когда они обнаруживают свой эгоизм, карьеризм, жажду денег, хитрость…»
Среди писателей, оказавших влияние на Трифонова, чаще всего называют Чехова. Действительно, чеховского в творчестве Трифонова много. Оно и в этом вот интересе к бытовым сюжетам, показывающим характер героев, и в стремлении развивать действие без малейшего морализаторства, но со вполне определенным авторским отношением, чувствующимся между строк. Оно и в том, какое значение у Трифонова приобретают, помимо действия, атмосфера и ощущения.
Одной из самых характерных особенностей трифоновского стиля стала также идущая от Чехова склонность к недоговоренностям, вытесняющим часть содержания в подтекст: «пробелы — разрывы — пустоты — это то, что прозе необходимо так же, как жизни. Ибо в них — в пробелах — возникает еще одна тема, еще одна мысль», — пояснял Трифонов. (Вспоминается здесь и «принцип айсберга» Хемингуэя, также очень любимого Юрием Валентиновичем.) Трифонов наследовал Чехову и в представлении о том, что трагедия жизни — не только в исключительных событиях, но и в ее медленном, бессобытийном, засасывающем движении. Он говорил:
«Быт — это великое испытание. Не нужно говорить о нем презрительно, как о низменной стороне человеческой жизни, недостойной литературы. Ведь быт — это обыкновенная жизнь, испытание жизнью…»
Впрочем, он и огорчался, когда содержание его городских повестей стремились свести к одному лишь быту:
«Я пишу о смерти („Обмен“) — мне говорят, что я пишу о быте; пишу о любви („Долгое прощание“) — говорят, что тоже о быте; пишу о распаде семьи („Предварительные итоги“) — опять слышу про быт; пишу о борьбе человека со смертельным горем („Другая жизнь“) — вновь говорят про быт…»
Четыре упомянутые повести, написанные в 1969–1975 годах, и составили «городской», или «московский», цикл. Интересно посмотреть повнимательнее, как они устроены. Возьмем для примера первую — «Обмен». Казалось бы, это банальная для своего времени история о квартирном обмене, срочно затеянном предприимчивой невесткой с тем, чтобы после смерти свекрови ее комната не отошла государству, — Воланду, полагаю, интересно было бы узнать, что москвичи и в конце 1960-х оставались испорчены квартирным вопросом. Но Трифонов добавляет несколько нетривиальных деталей, придающих повести глубину. Во-первых, он вводит второстепенного персонажа — дедушку главного героя Дмитриева. Дед — старый революционер, человек из какой-то прошлой жизни:
«В другой раз он затеял смешной и невыносимый по нудности разговор с Дмитриевым и Леной из-за того, что они дали продавцу в радиомагазине — и, веселясь, рассказывали об этом — пятьдесят рублей, чтобы тот отложил радиоприемник. И Дмитриев ничего не мог деду объяснить. Лена, смеясь, говорила: „Федор Николаевич, вы монстр! Вам никто не говорил? Вы хорошо сохранившийся монстр!“»
Но Трифонову этот дед бесконечно милее и Лены, и в общем-то неплохого Дмитриева: он жил ради идеи, его молодые и зрелые годы были наполнены смыслом. А поколению его внуков идеи и смысл заменил мещанский быт. Не всем, разумеется, — но слишком многим. И дед для того и потребовался, чтобы на контрасте с ним отчетливее можно было увидеть тоскливость такого существования.
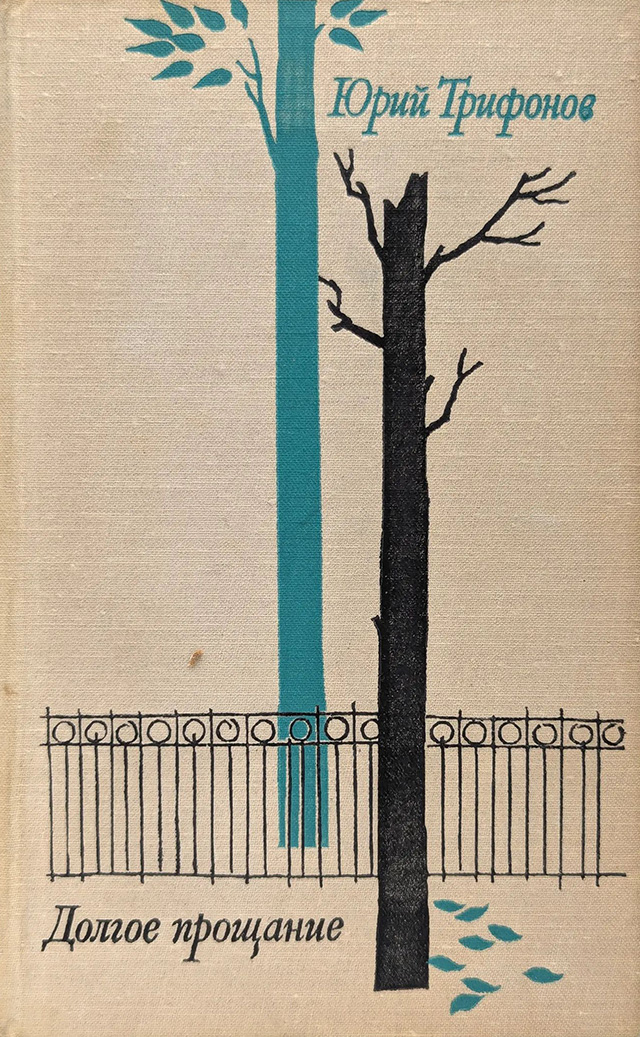
Второе добавление — вроде бы не имеющий отношения к основному действию фрагмент про отца и дядьев Дмитриева и дачный поселок, где они лет за сорок до описываемых событий построили дом. Этой вставки не понял даже Александр Твардовский, которому в «Новый мир» отдал повесть Трифонов: «зачем вам этот кусок про поселок Красных партизан? Какая-то новая тема, она отяжеляет, запутывает», — недоумевал Александр Трифонович.
А это был тот самый ход времени.
«Вообще отец был лучше, умнее братьев, человек неплохой. Только неудачливый. Рано умер, ничего не успел. Что сохранилось от его записных книжек, в которых было столько смешного, прекрасного? Книжечки исчезли, как и все остальное. Как исчезла Райка, жена Николая Алексеевича, бывшая когда-то красавицей и самой большой модницей поселка Красных партизан. Как исчез песчаный откос на берегу реки, где по утрам, очень рано, бывал отличный клев».
Самым известным произведением Трифонова стала повесть (иногда определяемая как маленький роман) «Дом на набережной», опубликованная в 1976 году. Умение Трифонова работать с недосказанностями, о котором я писал выше, оказалось здесь очень кстати: в середине 1970-х тему репрессий уже нельзя было поднимать в публичном поле. Приходилось обходиться намеками. Умолчания призваны были и показать избирательность памяти главного героя, Глебова, со временем переставшей удерживать неприятные для него воспоминания. Впрочем, эту избирательность Трифонов постулировал и вполне явно:
«Глебов не знал, что настанет время, когда он будет стараться не помнить всего, происходившего с ним в те минуты».
Рассказ, как и в «Утолении жажды», поочередно ведут два повествователя: мы то видим происходящее глазами Глебова, то слышим голос некоего остающегося безымянным участника событий — сверстника Глебова и его друзей детства. Это придает изложению стереоскопичность, а второй рассказчик еще и помогает читателю лучше увидеть неполноту и субъективность глебовской картины.
Следующим романом Трифонова был «Старик». По фабуле он напоминает «Обмен»: мы видим такого же «монстра», участника Гражданской войны Павла Евграфовича Летунова — только теперь он занимает место центрального персонажа. Конфликт поколений все тот же, но выражен он более отчетливо: Летунов проводит время за поиском архивных документов, восстановлением правды о красном командире Мигулине (его прообразом стал командарм Филипп Миронов), которая никому в его семье не интересна: дети и внуки заняты своими делами, главное из которых — заполучить освободившуюся сторожку в дачном кооперативе… Занятия Летунова они воспринимают как старческое чудачество:
«Верочка все жалобней: „Но ведь мне его жалко, правда же. Ну что он сидит ночами, не спит, перебирает свои бумажки…“ — „И слава богу, есть занятие“. — „Это не занятие, Коля. Это что-то…“»
При чтении «Старика» опять вспоминается Чехов: семейство Летунова — все его многочисленные дети, невестки с зятьями да внуки — до боли напоминает типичную семью из чеховских пьес. Нервные, нелепые, несчастливые, не умеющие устроить собственную жизнь, но готовые до истерики спорить о роли Ивана Грозного в русской истории…
Симпатии Трифонова на стороне Летунова. Конечно, героизм людей, готовых отдать жизнь за идею, заслуживает уважения. За радиоприемник и дачный домик жизнь никто класть не будет. Но кому, как не Трифонову, было дано понять, к чему привела та идея — так не лучше ли серый быт, чем идеи, стоившие жизни миллионам?
Позицию Трифонова можно истолковать по-разному. Часто пишут, что он воспринимал тридцать седьмой год как победу «плохих» людей над «хорошими»: мол, сама-то идея революции была правильной, только потом что-то пошло не так. Встречается и другое объяснение — что Трифонов не смог переступить через психологическую травму, которую носил в себе всю жизнь. Признать, что идея оказалась страшной ошибкой, означало бы для Трифонова перевернуть память о погибшем отце, превратить его в собственном сознании из жертвы в преступника — то есть, по меткому выражению Дениса Драгунского, стать Павликом Морозовым.
Рискну высказать еще одну гипотезу. «Старик» был написан в 1978 году — когда, с одной стороны, в идеалы революции уже мало кто верил, а с другой — публично дискредитировать их по-прежнему не дозволялось. Так почему бы не предположить, что Трифонов прекрасно все понимал — в том числе и то, что, вырази он свое отношение прямо, у книги не будет ни малейших шансов пройти цензуру. Поэтому все, что можно было сделать — и что он, собственно, и сделал — это (опять намеками, умолчаниями) показать необъективность Летунова, который, подобно Глебову, и ошибался в своих воспоминаниях о прошлом, и не хотел помнить что-то неудобное для себя. Тем самым Трифонов давал понять проницательному читателю: его, Трифонова, взгляд на историю не равен взгляду Летунова.
Последним романом Трифонова, изданным уже после его смерти, стало «Время и место». А в перестройку напечатали неоконченное «Исчезновение», над которым он работал в конце 1960-х — начале 1970-х. В этих двух книгах еще в большей степени, чем в предыдущих, отразилась биография Трифонова. А по существу они всё о том же — об истории, о времени, о судьбе.
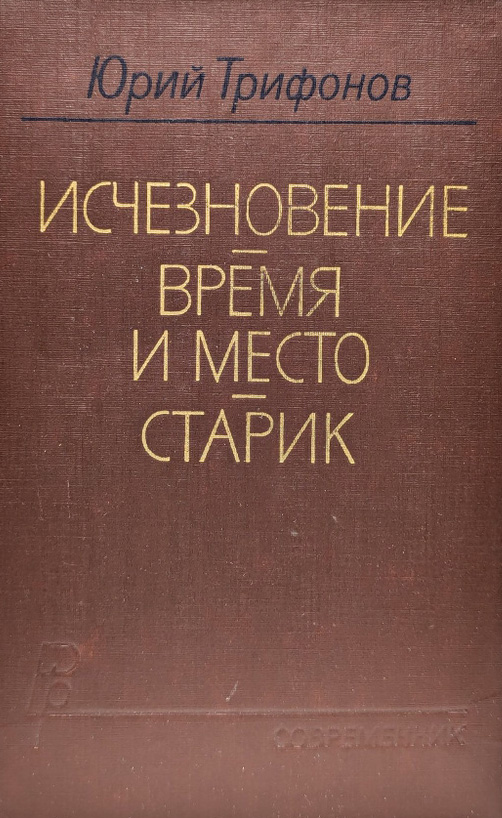
Напоследок скажу о рассказах Трифонова. Обратиться к этой форме ему посоветовал Твардовский после «Студентов». Юрий Валентинович последовал рекомендации: свои впечатления от поездок в Туркмению за материалом для «Утоления жажды» он не только вплетал в тело романа, но и оформлял в виде отдельных рассказов. Правда, «Новый мир» не взял подготовленный им цикл «Под солнцем»; а вот «Знамя» в 1959 году напечатало.
Рассказы Трифонова недооценены: сейчас о них вспоминают реже, чем о тех же «Обмене» или «Доме на набережной». А зря. Они очень хороши: плотные, без лишних деталей, иногда предельно лаконичные — как, например, совсем крошечный, на страничку, рассказ «Однажды душной ночью» из туркменского цикла, написанный за несколько часов под впечатлением от случайной встречи на окраине Ашхабада.
Даже в небольших рассказах ему удавалось сопрягать пласты времени и следить за его течением: таковы, например, «Игры в сумерках», сшивающие конец 1960-х все с тем же предвоенным детством писателя. Чаще всего рассказы получались у Трифонова грустными, а то и пронзительными — как, собственно, и большие его книги. Сергей Довлатов говорил о прозе Пушкина:
«… достаточно как следует рассказать историю, житейский случай, и глубина жизни, ее духовное содержание и все прочее — проявятся сами собой. Чудо „Повестей Белкина“ именно в том для меня, что это всего лишь „случаи из жизни“, рассказанные без затей».
Это определение прекрасно подходит и рассказам Трифонова.
В середине 1950-х Трифонов, чтобы заработать, занялся спортивной журналистикой. Он входил в редколлегию журнала «Физкультура и спорт», ездил на Олимпийские игры, чемпионаты мира по футболу и хоккею и оставил много прекрасных очерков и рассказов на спортивную тему. Один из моих любимых — «Победитель».
«— Он говорит, что он победитель Олимпийских игр.
— В каком виде? — спрашивает Борька.
— Во всех, — говорит Базиль, выслушав ответ старика. Когда-то он занял последнее место в беге на четыреста метров, но теперь он победитель. Все умерли, а он жив.
Я вижу, как в глазах старика возникает огонь, безумный огонь. Вот лампа, которая еще теплится в этом полуистлевшем радиоприемнике. Тщеславие старости! Гордость Мафусаила! Пережить всех. Победить в великом жизненном марафоне: все, кто начал этот бег вместе с ним, кто насмехался над ним, причинял ему зло, шутил над его неудачами, сочувствовал ему и любил его, — все они сошли с трассы. А он еще бежит. Его сердце колотится, его глаза живут, он смотрит на то, как мы пьем виски, он дышит воздухом сырых деревьев февраля — окно открыто, и, если он повернет голову, он увидит в глубоком, густо-синем прямоугольнике вечера дрожание маленькой острой звезды серебряного цвета. Никто из тех, кто когда-то побеждал его, не может увидеть этой дрожащей серебряной капли, ибо все они ушли, сами превратившись в звезды, в сырые деревья, в февраль, в вечер».
Юрий Трифонов умер в марте 1981 года. Ему было всего 55 лет. С того дня прошло больше сорока лет, но о книгах Трифонова по-прежнему пишут и спорят. И — самое главное — их читают.