Обустроивший Россию
К столетию со дня рождения Александра Солженицына
Анатолий Найман, поэт, писатель
 Я знал двух Солженицыных: первопоявившегося и того, который вернулся потом из Америки. Это были как бы незнакомые друг с другом люди. Верховенский в «Бесах» говорит Ставрогину, дескать, стране нужен Иван-царевич, его ждут, «по нему плачут». Если снять с этих слов всю бесовщину, ими можно многое объяснить. Мои знакомые, близкие, да и я тоже, восприняли появление Солженицына с каким-то заведомым восхищением.
Я знал двух Солженицыных: первопоявившегося и того, который вернулся потом из Америки. Это были как бы незнакомые друг с другом люди. Верховенский в «Бесах» говорит Ставрогину, дескать, стране нужен Иван-царевич, его ждут, «по нему плачут». Если снять с этих слов всю бесовщину, ими можно многое объяснить. Мои знакомые, близкие, да и я тоже, восприняли появление Солженицына с каким-то заведомым восхищением.
В начале 60-х я состоял в достаточно доверительных отношениях с Анной Ахматовой и с 1962 года выполнял обязанности ее литературного секретаря. Быть может, первый рассказ о Солженицыне я услышал именно от нее. Ахматова была отнюдь не из типа взволнованных дам, но, когда она рассказывала о том, как Солженицын к ней вошел, как он смотрел, казалось, что слова стоят под восклицательным знаком.
Я дружил с Чуковскими — Лидией Корнеевной и Еленой Цезаревной. У них, по меньшей мере у Лидии Корнеевны, был настоящий культ Солженицына, столь чистый и искренний, что этому отношению не возникало ни малейшего желания внутренне перечить. Даже в голову не приходило. Помню, я пришел к ним в середине дня, по деловому, должно быть, поводу. С порога чувствовалось — в квартире что-то происходит. Лидия Корнеевна удалилась, потом вошла и говорит торжественно, что вот, Анатолий Генрихович, пришел Александр Исаевич, обед готов, мы его спросили — он согласился, чтобы вы приняли участие.
С одной стороны, для молодого человека это было немножко аффектированно, с другой — мне было очень интересно познакомиться с человеком, который производил такое впечатление на моих знакомых и близких. Тот, кого я увидел, вопреки ожиданиям оказался чрезвычайно живым, симпатичным и сосредоточенным на себе человеком. Я не мог не почувствовать его масштаб, величину — и даже не по тому, что он писал, а по тому, как он держался. Он «был готов» — готов в том смысле, в каком Мандельштам незадолго до последнего ареста произнес, что готов к смерти.
Был еще такой эпизод. Мы жили тогда на Мясницкой, и по воскресеньям я с дочкой, ей было года четыре, делал круг: спускались до улицы Горького, нынешней Тверской, шли до Пушкинской и по бульварам выходили вновь на Мясницкую. Стоял октябрьский день, серый, холодноватый, время утреннее, народу очень мало. Мы поднимаемся по Горького мимо дома №6. Я говорю дочке: в этом доме жил писатель, которого ты знаешь, Корней Чуковский. В это время из арки на очень большой скорости выскакивает Солженицын, с которым я уже был знаком, но с тем, кто выскочил, знакомым никто быть не мог — это было нечто метафизическое. За ним четверо мужиков, одинаково и добротно одетых, в ондатровых шапках, что тогда служило отличительным знаком кагэбэшников. Переговариваясь на ходу — один даже успел перекинуться изящным словцом с проходящей мимо дамочкой, — они бросились в «жигуль» с шофером, а Солженицын двинул вверх по Горького. Дочка спросила: «Это Корней Чуковский?» Это было 8 октября 1970 года — день, когда объявили, что Солженицыну дали Нобелевскую премию.
 Козицкий переулок.
Козицкий переулок.
Подъезд дома, где жила семья Солженицына и откуда он был увезен в Лефортовскую тюрьму 12 февраля 1974 года
Помню, в один из моих немногочисленных разговоров с Корнеем Ивановичем (я встречался с ним в Переделкине) он меня спросил: «А вы слышали, как Солженицына вызвали на секретариат Союза писателей? Они все на него навалились, а он хоть бы что! Меня бы вызвали, я бы, наверное, повалился на колени и сказал: „Пощадите, православные!” А он их — и так и эдак, по мордасам».
Конечно, Солженицыну были свойственны бесстрашие, готовность идти на риск. Ведь он, вообще говоря, в одиночку свалил Советы. Конечно, ему помогали — свою роль сыграли и Сахаров, и «Хроника текущих событий», и Рейган, и другие, но по существу он это сделал один. И к кому он мог потом иметь претензии, что дальше пошло так, как пошло, а не по его замыслу?
Если бы можно было придумать что-то более искусственное и разочаровывающее, чем его возвращение, хотел бы я это видеть! Казалось бы, должен был вернуться автор «Архипелага ГУЛАГа» — книги, которую я считаю уникальной, как «Улисс» Джойса, абсолютно выдающейся, помимо прочего, в литературном плане, который никогда не будет оценен, поскольку в ней материал перешибает литературу. Но вернулся кто-то другой — человек, который знал, как жить всем нам, и потому хотелось держаться от этого в стороне. Зачем-то надо было прибыть через Тихий океан, выходить на станциях, встречаться с людьми... Ну, Брежнева еще лучше встречали — на тех же станциях, у тех же вагонов. Понимаете, в этом была некоторая самодеятельность.
У нас в России, а в Советском Союзе тем более, не проработаны определенные жесты. Например, выход в отставку — никто не понимает, как это сделать. Или похвалы — хвалить не умеют, начинают сразу с гениальности. И Солженицын тоже словно бы не понимал, что от него требуется. По всей видимости, он был совершенно искренне уверен в своей избранности — уверен до такой степени, что считал себя вправе учить. Хотя у тех, кто на Западе предлагает какие-то изменения, за спиной долгие годы в аудиториях классных университетов: философия, политика, социология, история.
У него была программа у нас на телевидении. Однажды я включил, потому что там выступал мой знакомый, и они на два голоса пели песню о том, как все ужасно в России и что правительство совершенно не туда идет. Этот мой приятель говорил: «Вот я вернулся из Ярославской области, там такая бедность, что люди посаженную картошку ночью с огородов воруют». А Солженицын ему в ответ: «Сты-до-буш-ка!» Вы понимаете, я знал, что он закончил один курс театрального училища, и это казалось какой-то пародией — для меня довольно горькой.
 Газетная травля января—февраля 1974 года
Газетная травля января—февраля 1974 года
Вы спрашиваете про актуальность текстов Солженицына. Слово «актуальность» для меня не вполне понятно, говорю совершенно искренне. Есть книги, которые не то чтобы говорят нечто о сегодняшнем дне. Скорее, ты читаешь и говоришь: «как я мог это забыть?». Не «ух ты!», а именно — «забыл!». «Один день Ивана Денисовича» — из таких книг. Это был первый Солженицын, которого я прочитал. Помимо захваченности, у меня тогда возникло твердое понимание, что, какую отныне не составь антологию русской прозы, этот рассказ должен туда войти.
Вадим Борисов, издатель Солженицына в Советском Союзе, совершенно несправедливо обвиненный им чуть ли не в воровстве, рассказывал, что после первого абзаца «Одного дня» был вынужден отложить книгу, потому что почувствовал, будто в другое измерение переместился. Мы же советскую литературу не очень читали, и что в ней было для нас значительного до «Одного дня»? Да, Платонов. Но у Платонова не было столь непосредственного выпада на тебя. Не против тебя, а на тебя.
Представьте, что в разговоре ваш собеседник в некоем возбуждении начинает играть ножом. Где-то на периферии сознания ты думаешь: лучше бы он этот нож положил. Против тебя этот нож не направлен, но мысль такая дурацкая возникает. «Один день» был обращен острием именно и только к тебе, и с самого близкого расстояния.
Всеволод Емелин, поэт
 Чтобы объяснить, как я заинтересовался Солженицыным, придется начинать с информационной кампании, которая началась в 1974 году, когда его выслали из Союза. Мне тогда было 15 лет, я, фабричный паренек, рос в благополучной семье. Отец не пил, мать не гуляла, и большинства обычных советских проблем — достать то-се, накормить-напоить — у нас просто не возникало. Даже книжки были — не Солженицын, конечно, но тем не менее. В той тепличной атмосфере мне казалось, что у нас в обществе все хорошо. И даже у взрослых — хотя мой дед по отцу был расстрелян, у матери репрессирован дядька — была абсолютная вера, что пусть мы живем беднее, чем на Западе, и жизнь человеческая у нас стоит дешевле, но общество у нас справедливее.
Чтобы объяснить, как я заинтересовался Солженицыным, придется начинать с информационной кампании, которая началась в 1974 году, когда его выслали из Союза. Мне тогда было 15 лет, я, фабричный паренек, рос в благополучной семье. Отец не пил, мать не гуляла, и большинства обычных советских проблем — достать то-се, накормить-напоить — у нас просто не возникало. Даже книжки были — не Солженицын, конечно, но тем не менее. В той тепличной атмосфере мне казалось, что у нас в обществе все хорошо. И даже у взрослых — хотя мой дед по отцу был расстрелян, у матери репрессирован дядька — была абсолютная вера, что пусть мы живем беднее, чем на Западе, и жизнь человеческая у нас стоит дешевле, но общество у нас справедливее.
В связи с высылкой Александра Исаевича по телевизору начался невообразимый шум. Стали показывать рабочих — то ли с завода ЗИЛ, то с АЗЛК, мрачных, жилистых, настоящих рабочих с плаката, чуть ли не с кувалдами в руках. Таких тогда почти не было, спились все. Но эти — с экрана — говорили в том духе, что «если бы он нам попался, может быть, тогда мы бы с ним по-мужски поговорили...».
Конечно, меня заинтересовала фигура, которая провоцировала народ на такое к себе отношение. Стоит прибавить, что и отношение к писателям тогда в принципе было иным. Если человек говорил, что он писатель, то рабочий не отвечал ему, по Хармсу, что он говно, а, напротив, завидовал. Сталин назначил писателей самыми высокооплачиваемыми людьми страны, и это еще сохранялось.
 С отцом Александром Шмеманом в Свято-Владимирской семинарии.
С отцом Александром Шмеманом в Свято-Владимирской семинарии.
Крествуд, Нью-Йорк, декабрь 1976 года
К тому времени я уже научился пользоваться коротковолновым радиоприемником. «Свободу» в Москве было не слышно, глушили ее четко, но вот «Би-би-си», «Немецкая волна», «Голос Америки» время от времени пробивались. Забавная закономерность: как у нас отношения с Западом чуть наладятся, их становилось лучше слышно. Как поругаемся — опять жужжание. Именно так я впервые услышал тексты Солженицына: «Письмо вождям Советского Союза», кусочки из «Архипелага». Но читались они невероятно занудными умирающими голосами, и меня минут за десять укладывало в тяжелый сон. Политические новости меня волновали тогда гораздо больше.
При всем том я мальчик был читающий. И мне было невероятно обидно, что мне не с кем в классе обсудить тех же Стругацких, которых мамка могла легко из библиотеки принести, а в магазинах их не было. Очень я искал свою компанию, но ничего не получалось. Совершенно случайно, будучи профессиональным троечником, я поступил в Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. «У кого не хватает гаек, тот идет в МИИГАиК». Институт замечательный, но сильно знать ничего не надо было, чтобы в него попасть.
Там я оказался на курсе с пареньком Иваном Зубковским, племянником ленинградского поэта Дмитрия Бобышева. Зубковский был меня постарше, успел проучиться в МИЭМ, был выгнан, брал академические отпуска, работал на заводе, где дают бронь, имел справку о психической болезни, носил джинсы — в общем, классический набор советского хиппи-диссидента. Отец его, кандидат физико-математических наук, был, что называется, «подписант» — так называли тех, кто, начиная с процесса Даниэля и Синявского, подписывал обращения с требованиями освободить, дать свободу слова и т. д. Через Зубковского я получил возможность не только говорить о книгах, которые мне было не с кем обсудить. Я попал в совершенно иную среду, круги, близкие к отцу Александру Меню, и мне открылись такие культурные бездны, что я столбенел несколько лет.
Первое, что я прочитал благодаря Зубковскому у Солженицына, был, как ни странно, «Один день Ивана Денисовича». Из магазинов и библиотек его изъяли, но в домах-то он остался — помню, в виде «Роман-газеты», с большой фотографией Солженицына, еще без бороды, с напряженным взглядом. Я прочел его очень внимательно, так, как, видимо, не смогли прочитать ни Хрущев, ни его референты. И я понял, что эта — самая невинная книжка Солженицына — не об отдельных преступлениях эпохи культа личности Сталина. Это книжка о том, что систему надо менять всю. Вот что я вынес из этого текста. А еще я понял, что можно писать без фиги в кармане, делая вид, что бывает социализм, как у Пол Пота, со зверским лицом, а бывает с человеческим — как в Праге 1968-го. Солженицын был уверен, что социализм ничего хорошего людям не несет, написал об этом книгу и ухитрился даже издать в Советском Союзе. Это удивляло.
 В диссидентских кругах человек должен был невольно выбирать, за Сахарова он или за Солженицына. Я выбрал Солженицына, поскольку тогда считал себя националистом и, естественно, призывы Александра Исаевича к опоре на традиционные ценности были мне ближе. Над Солженицыным витала аура страдальца, а Сахаров, до высылки в Горький, такой ауры не имел. Да и горьковская квартира не барак.
В диссидентских кругах человек должен был невольно выбирать, за Сахарова он или за Солженицына. Я выбрал Солженицына, поскольку тогда считал себя националистом и, естественно, призывы Александра Исаевича к опоре на традиционные ценности были мне ближе. Над Солженицыным витала аура страдальца, а Сахаров, до высылки в Горький, такой ауры не имел. Да и горьковская квартира не барак.
Кроме того, Солженицын был мощный писатель, а Сахаров таким не являлся. Те тексты, которые мне попадались, казались прекраснодушными, предлагающими простые решения очень сложных проблем. Этим, но гораздо позже, стал грешить и Солженицын. Сахаров считал, что человек в основе добр. Мне было трудно с этим согласиться. Да и сам физический облик академика плохо вязался с образом бойца и вождя. При этом, конечно, сам Солженицын не чувствовал себя диссидентом. Диссидент — это тот, кто пишет жалобы в различные инстанции. А он искал болевую точку и писал о ней не жалобу, а книгу. Когда он вышел из лагеря, он ощутил ответственность за тех, с кем сидел, и задумал сделать так, чтобы подобного никогда и близко не было.
Выбор между Солженицыным и Шаламовым не стоял, поскольку Шаламов написал покаянное письмо. Конечно, он на голову талантливее как писатель. Конечно, его опыт неизмеримо страшнее. Но он не ставил цели, которые ставил перед собой Солженицын. Солженицын сидел у себя в Рязани и был уверен, что страну эту разобьет. Бил-бил и разбил — быть может, не сам на сто процентов, но большой вклад его в этом есть. Он заключается, в частности, в том, что именно он лишил Советский Союз поддержки полезных идиотов, которые защищали наш режим на Западе. После его Нобелевской премии все они разбежались — либо к маоистам, либо к еврокоммунистам, кроме тех, кто совсем уж напрямую деньги от КГБ получал. Для нашей власти это было очень болезненно, ведь мы должны были быть по определению лучше всех. Это сейчас нам наплевать на поддержку Запада, а тогда — вовсе нет.
Но когда началась свистопляска с перестройкой, Солженицын, если честно, мне стал неинтересен. Я читал «Красное колесо», но так, для успокоения нервов. Мне казалось, ни его идеи, ни выбранная литературная форма не соответствовали времени. За монархизмом, который ожил в нашей стране в 1980-е, я не видел никакого будущего. Ну а когда в 1994-м он вернулся, проехав через всю страну из Владивостока в Москву, это выглядело пародийно. В мании величия нет ничего хорошего. Он вернулся как пророк, всех учить, а выяснилось, что его никто не слушает, никому он не нужен.
Сейчас о Солженицыне говорят гораздо больше, чем когда он вернулся. Его фигура сохраняет актуальность — вот что значит великий человек. Сегодня Солженицына ненавидят и правые, и левые. Правые — за то, что он против Сталина, левые — за то, что он за РОА. Ведь спор красных и белых продолжается по сей день, и в этом споре он мешает и тем и другим.
Конечно, власть старается его использовать, как старается использовать любые фигуры. Да, наверное, сегодня он был бы с Путиным. Но если бы ему было лет сорок — не был бы. У нас ужасно боятся противостоять власти в открытую, а зацепиться за Солженицына — ты вроде не против власти, но свою позицию в отношении нее проманифестировал. Есть, конечно, парадокс в том, что андроповский чекист прославляет автора «Архипелага ГУЛАГ». Но наша страна вообще парадоксальна в последние годы.
Модест Колеров, историк
 Солженицын позиционировал себя как великий учитель жизни уже в 1960-е, это неотъемлемая часть его образа. Конечно, он не причислял себя к диссидентам, поскольку адекватно понимал, что диссиденты — это среда партийная, сектантская, имеющая свою иерархию, и быть великим в этой среде, не соответствуя ее ожиданиям, он бы не смог. Это позиционирование наглядно проявилось в момент его писательского возвращения в Россию в 1990-м, когда одна из двух самых массовых газет, «Комсомольская правда», опубликовала его трактат «Как нам обустроить Россию». В этом трактате он выступил как пророк. Поэтому можно сказать, что в качестве учителя жизни он предстал перед массовым читателем раньше, чем великий писатель, поскольку более-менее общедоступные издания «Архипелага» и «Красного колеса» вышли позднее.
Солженицын позиционировал себя как великий учитель жизни уже в 1960-е, это неотъемлемая часть его образа. Конечно, он не причислял себя к диссидентам, поскольку адекватно понимал, что диссиденты — это среда партийная, сектантская, имеющая свою иерархию, и быть великим в этой среде, не соответствуя ее ожиданиям, он бы не смог. Это позиционирование наглядно проявилось в момент его писательского возвращения в Россию в 1990-м, когда одна из двух самых массовых газет, «Комсомольская правда», опубликовала его трактат «Как нам обустроить Россию». В этом трактате он выступил как пророк. Поэтому можно сказать, что в качестве учителя жизни он предстал перед массовым читателем раньше, чем великий писатель, поскольку более-менее общедоступные издания «Архипелага» и «Красного колеса» вышли позднее.
Помню, я сам в 1970-е читал «Один день Иван Денисовича» — зачитанный в хлам, до состояния тряпки. Это произведение ни при каких обстоятельствах не тянуло на произведение великого писателя. Я даже больше скажу: никаких особенных «глаз» народу Солженицын не открывал. Я вырос в шахтерской среде, а она традиционно была местом применения принудительного труда. В моем городе было много военнопленных, интернированных немцев, депортированных крымских татар. Все об этом знали. Новизна и главное значение этой повести заключались в том, что о ней писала официальная пресса. Как восприняла этот факт советская публика? Власть публикует этот текст, поскольку признает необходимость покаяться, признает существование лагерей, которых она учинила для своих людей, а люди там, оказывается, хорошие.
 Александр Исаевич Солженицын в Мильцеве.
Александр Исаевич Солженицын в Мильцеве.
22 октября 1956 года
Для меня в Солженицыне как писателе важнее всего попытка развития языка, попытка словарного приращения. Человек, который в одиночку пишет словарь, по определению гигант. А он это сделал между делом. Конечно, все это очень спорно, радикально оригинально, но эта попытка, осуществленная на консервативных основаниях, для меня важнее всего. Гораздо важнее, чем его абсолютно герметичные очерки о писателях и т. д. «Бодался теленок с дубом» — это так же глобально, как воспоминания театралов и артистов. То есть ни на гран.
Поскольку последние 25 лет жизни я отдал исследованию принудительного труда при Сталине, мое отношение к «Архипелагу» крайне скептично. И вот почему. Говорят, для своего времени он стал революционным открытием — для тех, кто жил в России; для тех, кто жил на Западе. Это вранье. Никаким открытием «Архипелаг» не был. В эмигрантской литературе на русском языке первые, абсолютно нелицеприятные и откровенные свидетельства о ГУЛАГе, который тогда еще не был ГУЛАГом, а собирательно назывался Соловками, появились массово уже в конце 1920-х.
К концу 1930-х об этом много писали в переводной литературе, в литературе меньшевистской, в «Социалистическом вестнике», и тогда же начали говорить о существовании в России тоталитарного режима. Первая кампания против принудительного труда широко прошла на Западе в 1930–1935 годах. Вторая кампания началась в 1946-м и до 1950 года также шла очень широко. Ничего нового с этой точки зрения Солженицын не сообщил.
И когда он подсчитывает число жертв сталинизма — 60 миллионов, 100 миллионов, — это выглядит, скажем так, крайне романтической публицистикой. Потому что, повторюсь, огромная, серьезная литература о количестве заключенных ГУЛАГа уже отшумела на Западе, и на русском, и на всех западных языках. И уже тогда было взвешено, что по максимуму можно говорить о 15 миллионах.
Больше скажу, с точки зрения гуманистического голоса о страданиях заключенных мне кажется гораздо более глубокой совершенно публицистическая работа Энн Эпплбаум, которую у нас в 2006 году издали под названием «ГУЛАГ. Паутина Большого террора». Там есть 70–80 страниц о положении женщин в лагерях, они гораздо сильнее Солженицына. Тексты Варлама Шаламова — гораздо страшнее и, мне думается, адекватнее текстов Солженицына.
Ценность «Архипелага ГУЛАГа» заключается только в том, что он был позиционирован на Западе как последнее слово откровений изнутри России, как ледокол против коммунизма. Этот ледокол не был ни историческим, ни художественным, а политическим произведением. И до сих пор остается значимым произведением для антикоммунистической, антироссийской пропаганды.
 Апрель 1940 года.
Апрель 1940 года.
Александр Солженицын и Наталья Решетовская в дни женитьбы
Я не буду останавливаться на высказываниях Солженицына о том, что следует напасть на Красную Россию. Среди выдающихся, иногда великих, русских мыслителей было много врагов России. Есть обожаемый мной Борис Петрович Вышеславцев — гитлеровский коллаборационист. Есть Иван Ильин, с его фашистскими и нацистскими настроениями. То есть такого рода политический ангажемент Солженицына против России только потому, что она коммунистическая (как говорится, «метили в коммунизм, а попали в Россию»), не новость. Но впервые масштаб художественных амбиций автора резонировал с масштабом политических задач, которые возлагались на его произведение. Однако Солженицыну удалось выскочить из-под ярма политического ангажемента, что показал его трактат «Как нам обустроить Россию». То же «выскакивание» продемонстрировала в недавнем интервью его вдова, когда сказала, что Запад ломиком раскалывает Украину и Россию.
Умение Солженицына подтверждать свое величие движением против течения возобладало над инструментальностью его «Архипелага». Он оказался слишком амбициозен для Запада. Не менее опытный, не менее ангажированный и амбициозный разоблачитель системы принудительного труда Иван Солоневич еще до войны весьма глубоко описывал ГУЛАГ, но он оказался, вежливо говоря, нарциссом и параноиком с одной стороны, а с другой — человеком нацистских симпатий. В итоге использовать его западной пропаганде было очень трудно. Можно делать домыслы, что аналогичным образом хотели применить Бориса Пастернака, но его роман оказался слабеньким, не инструментальным — ледокол из него не сделаешь. Выбор пал на Солженицына.
Леонид Блехер, участник правозащитного движения, социолог
 В 1968 году, когда я учился на мехмате Ростовского госуниверситета, знакомая привезла из Москвы плохонькую машинописную копию романа «В круге первом». И дала почитать — только чтобы я из дома не выносил.
В 1968 году, когда я учился на мехмате Ростовского госуниверситета, знакомая привезла из Москвы плохонькую машинописную копию романа «В круге первом». И дала почитать — только чтобы я из дома не выносил.
Потом, уже в Москве, в 1974 году, Татьяна Ходорович, двоюродная сестра Сергея Ходоровича, который позднее стал моим руководителем в солженицынском Фонде помощи политзаключенным, спросила меня, не мог бы я перепечатать «Архипелаг ГУЛАГ». Только она может мне давать по несколько десятков страниц, не больше. И некоторое время я его перепечатывал на пишущей машинке, пока не стало ясно, что работа эта неподъемная. К тому же появились хорошие ксерокопии — по слухам, откуда-то с Кавказа. Я успел перепечатать только пару сотен страниц. Я печатал и читал, что я печатал.
Солженицын писал как будто из другого времени, не совпадающего с моим, и когда он писал про будущее — как в «Письме вождям» или в «Как нам обустроить Россию», и когда он писал о прошлом — как в «Красном колесе» или в «Записках о февральской революции». Он как будто не видел времени, но только структуру и логику происходящего. Я думаю, что это потому, что Солженицын был математиком — меня учил его одногруппник, академик Иосиф Ворович. У математиков чувство времени ослаблено, оно им незачем. Поэтому и тексты Солженицына выходят за пределы своего времени и поэтому — что еще важнее — они мало кому подходили из его современников.
Особенно очевидным это стало, когда он вернулся в Россию. Современники просто хором возопили, что он все не так понимает. Я такое мнение не разделял и не разделяю. За четверть века жизни с текстами Солженицына я привык к тому, что смысл прочитанного дается не сразу. И мне приходится много спорить, и с друзьями, и с соплеменниками, и с родственниками — и по поводу «Письма вождям» или «Двести лет вместе», о том, что же там на самом деле написано, о чем идет речь.
Игорь Шафаревич сказал как-то, что математик пишет так, что он может быть правильно понят только одним-единственным образом. Шафаревич, собственно, и сам так писал. И чтобы добиться подобного эффекта, следует писать очень точно — именно так, как писал математик Солженицын. Кстати, ему было неважно, как его поймут и поймут ли вообще его современники.
С обществом же в это время происходило следующее. Со смертью Сталина — вернее, даже раньше, после окончания войны — запустился как бы процесс демонтажа системы, запустился как снизу, так и сверху. Этот процесс закончился известными событиями конца 1980-х годов. Идеологическая система стала таять, как айсберг, и от нее откалывались, иногда тихо, иногда с грохотом, куски и обломки.
Я помню, скажем, свое потрясение, когда, начиная с конца 1970-х годов, в мою библиотеку сам- и тамиздата стали попадать книги от сынков и родственников наших руководителей. Они привозили их из-за рубежа, читали и потом отдавали дальше. Я тогда не понимал, что это значит, но в начале 1990-х годов вспомнил. Ведь в общественной динамике важно не само действие или происшествие, а реакция системы и общества на него, ответный шаг. Отзыв на вызов. Как позднее заметил генерал Лебедь, самым главным в событиях августа 1991 года было то, что никто не вышел защищать коммунистический режим.
Солженицын, конечно, сыграл в этом большую роль. Своими романами, в первую очередь «Архипелагом ГУЛАГом» — а это один из лучших романов русской литературы, — он придал ускорение лавине, которая возникла и двигалась сама, без него. Он принципиально ничего не изменил, но дал голос происходящим процессам — рваный, скачущий, иногда странный голос, которым говорят его тексты.
 Солженицын и Сахаров были государственниками, конечно. Они отлично знали и понимали значение и роль такой организационной формы существования народа, как государство. Без него народ превращается в какой-то беспомощный комок слизи. Иное дело, что и Сахарова, и Солженицына очень беспокоило, что современное им государство паршивенькое и «своей службы не сполняет». Фактически само государство губит то, за что, по идее, оно должно отвечать.
Солженицын и Сахаров были государственниками, конечно. Они отлично знали и понимали значение и роль такой организационной формы существования народа, как государство. Без него народ превращается в какой-то беспомощный комок слизи. Иное дело, что и Сахарова, и Солженицына очень беспокоило, что современное им государство паршивенькое и «своей службы не сполняет». Фактически само государство губит то, за что, по идее, оно должно отвечать.
Для Солженицына это был очень больной вопрос. В своих исторических работах он, представляя государство той, царской исторической Россией, с отвращением и ужасом показывает, как это государство погубило подведомственную ему страну. И в 1990-е Солженицына, как я вижу, тоже просто корежило от того, что он видел вокруг.
Я думаю, что Солженицын, его личность и его книги, даны нам как бы «на вырост». Возможно и даже очень вероятно, что наступит время ослабления российского государства настолько, что станет вопрос о его существовании на нашей земле в централизованной форме. Об этом, сугубо на мой взгляд, могут говорить некоторые социологические признаки. Например, когда в нулевых годах стало заметно, что люди предпочитают идентифицировать себя сперва с конкретным регионом, а потом уже с Россией. И когда это время наступит, государство придется переучреждать и решать, каким быть и ему, и нам всем. Вот к тому будущему времени, я полагаю, и обращается Солженицын. К тем, будущим нам, через наши сегодняшние головы, обращены его тексты. И не только «Как нам обустроить Россию», конечно. Его тексты написаны для тех, для кого советский период будет казаться страшной — или еще какой — сказкой.
Лев Рубинштейн, поэт, публицист
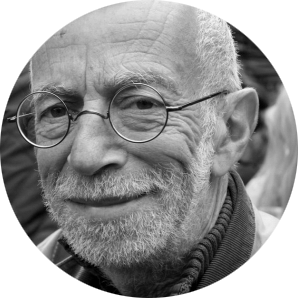
Вот я, мне лет 15 — нежный, чувствительный, любознательный возраст. Вот «Новый мир», и вот «Один день Ивана Денисовича». И вот взрослые читают и что-то горячо обсуждают. Мне стало жутко любопытно, я стал тоже читать и, надо сказать, проникся. Это прозвучало для меня достаточно оглушительно, настолько было непохоже на все, что я читал из советской литературы. И человеческий опыт, и персонаж, и словечки — «маслице да фуяслице» — это очень на подростковую душу подействовало, и я это ощущение не забыл. Помню, сколько-то лет спустя я не без трепета решил перечитать. Ощущения были другие, но тоже сильные. Я считаю, это самая удачная вещь Солженицына. Злые языки говорят, что огромную роль сыграли редакторы, но — не знаю.
Если говорить о моем профессиональном писательском опыте, то ни один текст Солженицына на меня не повлиял. А в гражданском смысле, конечно, огромную роль сыграл «Архипелаг ГУЛАГ». По-моему, это один из важнейших текстов второй половины XX века вообще. Плюс, не надо забывать, это не просто текст. Это текст-поступок, это человеческий и гражданский подвиг. Я читал «Архипелаг» достаточно поздно, и к тому моменту уже знал, где живу, и никаких иллюзий по этому поводу не испытывал. Но представляю, как читали это люди, у которых иллюзии были! Говорят, «Архипелаг» сильнейшим образом повлиял на окололевых интеллектуалов на Западе — отвратил их, так сказать, от коммунистического соблазна.
Другие тексты Солженицына я читал по мере их появления. А появление было каким? Когда кто-нибудь привозил тамиздат из-за границы — «Раковый корпус», «В круге первом» и так далее. Эстетически они были далеки от меня, и я страшно злился. Не на тексты, не на себя, а на идиотскую социально-культурную ситуацию, в которой я не вправе был вслух сказать, что мне не нравится писатель Солженицын. Сказав такое, я бы смыкался с официальной пропагандой, которая на всех углах твердила, что он так себе писатель, мыльный пузырь — что неправда. Потом стала доходить солженицынская публицистика, его мировоззренческие тексты. Некоторых они стали раздражать, появились люди, которые с ним полемизировали, иногда резко. Внутри эмиграции развивалась вражда между партией Синявского, партией Солженицына. Войнович написал злой роман «Москва 2042», где Солженицын был сатирически выведен.
 Александр Исаевич и Наталья Дмитриевна Солженицыны.
Александр Исаевич и Наталья Дмитриевна Солженицыны.
Штерненберг (нагорье Цюриха), где писатель работал летом и осенью 1974 года
Мне кажется, Солженицын стал антисоветским писателем исключительно волей обстоятельств. Когда началась оттепель, прогрессивная общественность, схематически говоря, выступала за то, что Сталин плохой, а Ленин хороший. Солженицын в ранние годы попал в эту шестидесятническую струю. Антисталинизм официально завел Хрущев, и Солженицын, оказавшись в чести, стал соискателем Ленинской премии. Он, слава Богу, ее не получил, иначе биография бы не сложилась. И когда Хрущ устраивал встречи с творческой интеллигенцией, где клеймил «аксеновых», он ставил им в пример Солженицына. Если читать «Бодался теленок с дубом», видно, что он боролся за свое место в советской литературе. Он хотел быть приличным советским писателем и не хотел уезжать. Даже своего друга и отчасти благодетеля Ростроповича осудил за то, что тот уехал. Солженицын был уверен, что нужно жить и бороться здесь.
Когда он вернулся в Россию, это было отчасти трагическое возвращение. Солженицын вернулся как-то не вовремя. Как я тогда написал, он пришел как учитель в класс и увидел, что ученики не выучили то, что он задал. Это его страшно расстроило. В нем было много учительского, а время было такое, что сам факт учительства всех раздражал. Никому уже не хотелось быть учениками. После десятилетий сплошного учительства советской власти даже такой учитель, как Солженицын, людей не устраивал. Очень многие стали относиться к нему откровенно иронически, особенно молодые люди. Он выглядел архаично, говорил архаично, а временами и реакционно.
Думаю, эта учительская установка — если угодно, профетизм — были ему присущи изначально. Эти черты развивались, чему потворствовали все, кто ему в рот смотрел, а таких было много. Солженицын, действительно, был человеком жеста и черно-белого мировосприятия. У него даже в лице была заметна такая непреклонная суровость. По темпераменту он ближе к старцам, и в другую эпоху жил бы в скиту, к нему бы ходили за благословением. Конечно, он очень серьезно работал над собственным имиджем — это вообще одна из линий русской литературы, которая меня ничуть не раздражает. Биографию по законам искусства строили многие — начиная с Пушкина, которому это вполне удалось. Учительство тоже одна из из черт русской литературы, она появилась еще раньше Толстого, который ее абсолютизировал. К сожалению, к концу жизни Солженицын превратился, как мне кажется, в пародию на самого себя.
Когда он стал встречаться с Путиным, это казалось просто катастрофой. Человек всю жизнь боролся с КГБ и тут вдруг впустил в дом полковника. Мне кажется, одним из идеологов того, что мы видим сейчас, он стал отчасти невольно. Он не выступал за изоляционизм, особый путь, даже когда встречался с Путиным. В этом проявляется глубокий цинизм власти.
Я думаю, в советский период было две партии. На поверхности — партия коммунистическая, которую мы все знаем. И чуть глубже — партия чекистская, которая с коммунистической партией и взаимодействовала, и ей противодействовала. Коммунистов погубил груз идеологических догм. Чекисты оказались циничнее. Они были деидеологизированы, их интересовала только власть. И волей различных обстоятельств они к власти пришли.
Солженицын, когда боролся с коммунизмом, этого обстоятельства не учел: где-то же в недрах тех же структур зреют имперско-националистические зерна. И для них он объективно удобен. Некоторые солженицынские идеи смыкаются с тем, что нам сейчас транслируют. Но у меня нет ни малейшего повода сомневаться в его порядочности.
Несколько текстов Солженицына точно останутся в истории литературы. «Один день...» уж точно. «Архипелаг ГУЛАГ» — тоже. Он больше, чем политический жест. Как ни странно — когда он станет менее актуален как текст публицистический, он станет актуальнее как текст литературный. Так бывает в истории литературы. Это очень важное, новаторское в жанровом отношении произведение. Это масштабная эссеистика с особой интонацией, которая, конечно, может кого-то раздражать, как многие интонации Солженицына. «Архипелаг» будут читать. Про «Красное колесо» не уверен. Я лично не смог.