Обоняние как социальный конструкт
Беседа о книге Робера Мюшембле «Цивилизация запахов»
Ирина Прохорова: Сегодня мы поговорим о том, как менялось отношение к запахам в европейской культуре. Мы отталкиваемся от недавно вышедшей книги французского культуролога Робера Мюшембле «Цивилизация запахов». Эта тема уже довольно давно стала популярной в нашей научной и культурной жизни. Какова роль обоняния в культуре? Главное утверждение Мюшембле, которое, мне кажется, стоит обсуждения, это то, что разделение запахов на приятные и неприятные, ароматные и зловонные, которое мы принимаем за данность, обусловлено совсем не нашей естественной биологической реакцией, а многовековым давлением культуры. Я бы сразу предложила немножко поговорить на эту тему. Согласны ли вы, что одни и те же запахи могут по-разному идентифицироваться в разных культурах?
Ольга Вайнштейн: Поскольку в свое время наш двухтомник «Ароматы и запахи в культуре» действительно был фактически первой научной публикацией на эту тему, я сразу с удовольствием замечу, что уже тогда, 15 лет назад, эта точка зрения высказывалась исследователями, и даже в своем предисловии я тоже отстаивала эту позицию и именовала ее «культурный релятивизм». Относительность восприятия запахов задается несколькими параметрами. Это историческая относительность, которая зависит от того, какую культурную эпоху мы рассматриваем. Далее важен культурный контекст той или иной национальной культуры или исторической эпохи. И, наконец, важна ситуативная относительность восприятия запахов.
Приведу пример такой исторической относительности. Если мы возьмем XIX век, с которым работает Мюшембле, то увидим резкий слом в восприятии запахов — это меняющееся отношение к цветочным и животным ароматам. Если в начале XIX века животные ароматы, то есть мускус, амбра, цибетин, считались приятными, даже исключительными — скажем, мускус очень любила Жозефина, супруга Наполеона, — то в 1830-е годы происходит перемена, и эти ароматы начинают считаться тяжелыми, неприличными, совершенно неприятными. Это связано с целым рядом факторов, не буду их сейчас перечислять. Выскажу тезис, что действительно приятных и неприятных запахов, с точки зрения культуролога, просто не существует, и эта оппозиция очень и очень относительна.
Мария Пироговская: Я соглашусь с этой мыслью, но хотела бы рассмотреть ее, немного отступив в сторону, как антрополог. Мы можем двигаться по вертикали, диахронически, и двигаться в глубь времени — и обнаруживать, как та или иная константа оказывается не константой. Мускусные запахи действительно кажутся нам слишком тяжелыми, если мы открываем какие-нибудь духи в ретростиле. Но мы можем двигаться по горизонтали, и для этого нам не нужно производить историческую реконструкцию. Нам достаточно сойти с трапа самолета в незнакомой стране, к культурному коду которой мы еще не привыкли. И там мы обнаруживаем разнообразие запахов, которое у нас не рождает те же ассоциации, что и у местных жителей, и мы видим, что деление на приятное и неприятное, опасное и безопасное, здоровое и вредное будет другим. Оно может быть чуть-чуть сдвинутым, а может быть кардинально другим, и тогда мы вообще теряемся, у нас исчезает привычная система координат.
К историческому и культурному измерениям стоит добавить еще одно — социальное, когда запахи расположены по осям координат не только с точки зрения культурной выучки, но и с точки зрения социального устройства. И здесь не нужно далеко ходить за примерами — все мы умеем различать дешевые и дорогие духи. А как мы это делаем? Откуда мы знаем, что этот аромат дорогой, а это мыло — дешевое? Каким-то образом мы умеем распределять такие вещи по категориям и наклеивать на них социальные ярлыки. Это ужасно интересно.
Ирина Прохорова: Да, это действительно важный момент. Мы ведь прекрасно знаем, что все города пахнут по-разному, и, приезжая в любой другой город — будь то Петербург, Екатеринбург, куда угодно, — первое, что мы ощущаем: состав воздуха другой. Не только Мюшембле, но и очень многие подчеркивают, что обоняние — важнейший фактор памяти. Я помню свои первые ощущения от Нью-Йорка — там очень характерный запах каких-то жареных каштанов, вообще еды, которая готовится на улице, фастфуда, бензина… все это вместе создает неповторимый запах. И социальное измерение в книге Мюшембле тоже есть.
Например, ксенофобия часто возникает по отношению к социальным группам, у которых другая система питания — другие продукты, специи и так далее. Начинается навешивание ярлыков на социальную группу: они плохо пахнут, поэтому они не такие, как мы, не цивилизованные — мы знаем печальные примеры. Меня удивил пример, который приводит Мюшембле, что, оказывается, когда на Востоке появились европейцы, о них стали говорить, что они воняют сливочным маслом. Для нас сливочное масло — нормальный, приятный запах еды, а в восточной культуре, где жарят совсем на других маслах, это неприятный запах.
Мария Пироговская: Я думаю, что в этом примере Мюшембле опирается на французских антропологов, которые работали в субсахарной Африке, где есть очень интересные системы классификаций запахов, которые совершенно не похожи на наши. В частности, запах сливочного масла — это запах не просто сливочного масла. Просто сливочное масло у этих народов вызывает вполне себе приятные ассоциации, в частности, потому, что оно используется для укладывания причесок. А вот прогорклое сливочное масло, этот odeur français, кислый, опасный запах, действительно оказывается лейблом, который характеризует ближние народы, что понятно: соседа всегда приятно считать менее культурным и цивилизованным, чем мы сами. Почему — потому, что в сравнении с этими африканскими народами европейцы не моются: с их точки зрения мы немытые, грязные и воняем прогорклым сливочным маслом. Эти антропологические данные довольно сильно корректируют самомнение, характерное для западноевропейской культуры. Не только мы считаем кого-то недоцивилизованным, но и нас считают немытыми.
Ольга Вайнштейн: Я бы добавила, что и в европейской культуре у аристократов было принято говорить про бедноту, что это грязные люди. И точно так же работает оппозиция по национальному или гендерному признаку — очень часто негативной коннотацией является именно запах: что эти люди грязные, немытые и вонючие. В качестве примера такой мизогинии в культуре Мюшембле приводит отношение к женщинам как к очень грязным и вонючим существам, которое стало меняться только в XVIII веке. Все, что было до этого, — например, процессы над ведьмами, — было связано в том числе с неприятием женской телесности и женских запахов. Оппозиция приятный/неприятный запах часто воспринимается в связке с оппозицией чистое/грязное. И когда в XIX веке происходит санитарная реформа, выходит на арену буржуазия, сразу же возникает этот дискурс, что, дескать, мы чистые, мы моемся — а вокруг нас грязная беднота. Это очень важные культурные маркеры.
Ирина Прохорова: Долгое время для аристократии понятие гигиены было необязательным — не важно, как они пахли, важно, что у них кровь была голубая. Они себя числили, так сказать, высшим социальным слоем по степени древности своей крови. Тогда как буржуазия состояла из self-made людей, у которых не было за спиной генеалогического древа. Важно, что понятие гигиены восходило и к религии — что мы чисты перед Богом, чистота тела — это чистота помыслов. Мюшембле пишет, что первые гигиенисты, которые уже начиная с XVII века начали ставить вопрос о чистоте, стали ассоциировать демонов, ад с телесным низом. Все человеческие выделения были так или иначе связаны с низом, с грехами и так далее. Поэтому идея гигиены произошла скорее не от идеи здоровья, а от идеи религиозной чистоты, которая приобрела такой телесный аспект.
Мария Пироговская: Я бы здесь поспорила с господином Мюшембле. Мне кажется, что нет культуры, в которой гигиена не существовала бы как идея. Она может быть непроговоренной, не существовать в виде какой-то научной консистентной теории, но система практик, нацеленных на поддержание тела, будет существовать везде. И французские аристократы, которые гордились голубой кровью и не мылись, как-то ведь тоже очищались — известны миниатюры, где они с какими-то скребками, маслами все-таки поддерживают свое тело. Другое дело, что их система гигиены с нашей точки зрения очень условная. Но тем не менее это культурное понятие, и, наверное, нет культуры, в которой бы его не было.
Ирина Прохорова: Недаром существовала поговорка, что истинный христианин моется два раза — когда рождается и когда умирает. Долгое время вода считалась опасной для здоровья и тела. Это, конечно, довольно странное представление о гигиене с нашей позиции.
Ольга Вайнштейн: Все это связано с разным парфюмерным этикетом, который зависит от культурной эпохи. Все мы знаем, что в XVII-XVIII веках функция духов состояла в том, чтобы заглушать запах немытого тела. По мере того как меняется парфюмерный этикет, люди начинают больше мыться — и духи теряют эту функцию. Если в начале XIX века не существовало гендерного разделения на мужские и женские духи (известно, что одеколон был и мужским, и женским запахом), то уже к тридцатым годам XIX века эти унисексные нормы отступают и правила использования духов снова меняются — женщины используют цветочные запахи, а мужчины практически отказываются от ярких ароматов. На их долю остаются лесные ароматы, например сосна, кедр, дубовый мох — это метафора охоты. Позднее добавляется запах кожи. В общем, это такая символическая проекция, что мужчина ничем не пахнет. Это проекция честности, прямодушия, порядочности: значит, у него нет задних мыслей, желания соблазнить, косвенно воздействовать на собеседника.
 Джордж Фредерик Уоттс. Портрет Эллен Терри
Джордж Фредерик Уоттс. Портрет Эллен Терри
Ирина Прохорова: Можем ли мы считать, что употребление духов — это культурный атавизм?
Мария Пироговская: Да, отчасти — конечно. Я думаю, что назначением духов было не совсем отшибить запах, их назначение было более медицинским и лекарственным, поскольку запахи считались продолжением лекарственных свойств. Важным было скорее сбалансировать запахи тела, а основной слой грязи снимало белье. Со сменой белья человек избавлялся от близкого кокона телесных запахов, а одеколоны и духи существовали уже в качестве второй кожи. Во второй половине XIX века люди стали более тщательно следовать медицинским рекомендациям, чаще мыться и меньше использовать разные пахучие средства — порошок, отдушину фиалками от потливости ног или розовую помаду для волос на бараньем жире, — это все актуальные средства второй половины XIX века. То есть внизу фиалки, наверху розы, бараний жир, и все это еще сверху залито каким-нибудь букетом Guerlain — человек был очень ароматным. Появляется буржуазия, которая делает ставку на демонстративное, но незаметное потребление и начинает использовать духи более интенсивно: нежные запахи — более расходные, их нужно больше на себя выливать. Об этом были довольно любопытные французские исследования — что, с одной стороны, парфюмерный рынок немножко демократизируется, а с другой — резко диверсифицируется: появляются более простые и более роскошные запахи для разного рода парвеню, для тех, кто хочет быть классом выше. И сейчас, мне кажется, сохраняется эта функция демонстративного потребления: у человека может быть очень простая одежда — самый базовый нормкор — джинсы, толстовка и кроксы, но сам для себя и для знатоков, поливаясь какими-нибудь селективными нишевыми духами, человек делает некоторое заявление о своем истинном социальном лице. Это заявление знатока. Эта функция на самом деле более стойкая, чем все остальные, поскольку мы всегда будем хотеть каким-то образом заявлять о своих отличиях, о том, что мы более просвещенные, более интеллектуальные, с лучшим вкусом и так далее.
Ирина Прохорова: То есть вы считаете, что в современную эпоху, когда очень многие стороны жизни демократизировались, запах остается основным маркером социальных различий? Грубо говоря, дорогие, тонко пахнущие духи выдают человека с большим достатком и вкусом?
Мария Пироговская: Да, и с большим культурным капиталом. То есть это человек, у которого есть время — невосполнимый ресурс, — которое он потратил на исследование этого изысканного рынка. Буквально, по Торстейну Веблену, это такой жест демонстративной траты, которая подчеркивает достоинство и респектабельность человека таким хитрым и тонким способом.
Ирина Прохорова: Интересно, что в данной культуре это безошибочно считывается, но в другой-то культуре это может не работать.
Мария Пироговская: Да, причем эта другая культура может существовать буквально по соседству. В этом смысле у нас внутри одного общества может быть несколько потребительских культур, и одна совершенно не считывает другую. Это послание нацелено и оказывается считываемым более-менее равными людьми, у которых тот же бэкграунд и те же представления о духах.
Ирина Прохорова: Мюшембле на самом деле значительно больше внимания уделяет неприятным запахам, его книгу можно было бы назвать «История зловония в европейской культуре». Он приводит массу невероятных примеров — прежде всего, конечно, о Франции. Короли выпускали бесконечные эдикты, требующие гигиены, чистоты, потому что города были действительно в чудовищном состоянии — завалены экскрементами, отбросами производства, воняли — все то, что Патрик Зюскинд гениально описал в известной книге. И невозможно было воевать с людьми, потому что вдруг выяснялось, что привычка к зловонию имеет еще и некоторые важные символические предпосылки. Например, большая навозная куча перед дверью крестьянского дома, как с горечью отмечали гигиенисты уже в XIX веке, говорила о богатстве хозяина, и он не желал переносить ее куда-нибудь в другое место. И это рождает совсем другой взгляд на понятие приятного и неприятного запаха.
Ольга Вайнштейн: Если брать традиционную культуру, то там неприятные запахи очень часто могут рассматриваться позитивно. Допустим, запах скотного двора. Поскольку на Востоке корова считается священным животным, то, соответственно, и коровий навоз, коровьи лепешки тоже воспринимаются в этом ряду. В двухтомнике «Ароматы и запахи в культуре» есть отрывок, в котором речь идет именно об отношении к нечистотам. Это рецензия Оксаны Гавришиной на книжку «История дерьма», прошу простить мне такие выражения. Это отношение очень вариативно, и не только в зависимости от национального или исторического контекста, но и от ситуативного. Приведу один конкретный пример.
Допустим, у хозяйки накопилась стирка, и в этой куче грязного белья лежат грязные носки, и, если все это лежит рядом со стиральной машиной — все нормально, это подготовлено для стирки. Но если те же грязные носки окажутся, например, на белой накрахмаленной скатерти в гостиной, это, конечно, будет восприниматься как скандал, нарушение элементарного этикета. В данном случае распределение запахов в пространстве происходит по месту.
Мария Пироговская: Более того, я добавлю, что, если на этой чистой накрахмаленной скатерти будут лежать чистые носки, все равно мы будем чувствовать себя неловко, потому что место чистых носков не на накрахмаленной скатерти. У нас в голове есть разметка пространства, где что должно лежать, и все, что выпадает из предписанных категорий, оказывается грязным. Запахи могут уже домысливаться — или мы можем с некоторым подозрением относиться к вещам, которые занимают неположенные им места.
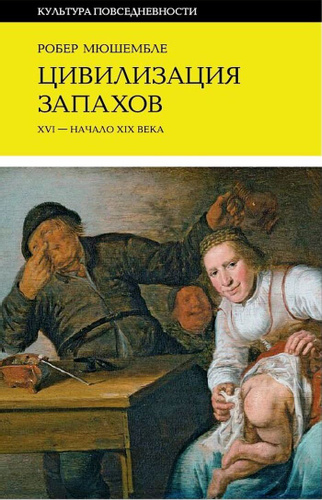 Ольга Вайнштейн: Да, тут я напомню классическое определение Мэри Дуглас, что грязь — это вещь не на месте.
Ольга Вайнштейн: Да, тут я напомню классическое определение Мэри Дуглас, что грязь — это вещь не на месте.
Ирина Прохорова: В книге Мюшембле много ярких примеров различного понимания функции зловония и незловония. Например, мы знаем, что во время страшных эпидемий чумы, которые вплоть до XVIII века поражали европейские города из-за скученности и антисанитарии, была идея, что плохой запах можно перешибить только или еще более сильным плохим запахом, либо какими-то очень сильными благовониями. Поэтому чумные врачи набивали благовония в свои носы. Но если говорить о парфюмерии, то вот рецепт раннего Нового времени, который не могу не зачитать — предполагалось, что, применив это, человек будет хорошо пахнуть: «Как изготовить по дешевке мускус, используя небольшое количество настоящего продукта? На протяжении трех последних дней лунного месяца кормить семенами лаванды и поить розовой водой мохноногих голубей — таких черных, каких только можно сыскать. Следующие пятнадцать дней кормить птиц бобами. На шестнадцатый день отрезать им головы, собрать кровь в фаянсовую миску, стоящую на горячих углях, снять пену и в каждую унцию крови добавить по драхме настоящего восточного мускуса, капнуть три-четыре капли желчи козла и поставить смесь на две недели на нагретый лошадиный навоз, снова согреть». Очень интересно, какой запах в конце должен получиться.
Мария Пироговская: Их же кормили чем-то душистым, поили розовой водой. По идее, птички должны были всем этим пропитаться.
Ирина Прохорова: Но тут лошадиный навоз, желчь козла — немножко другие ольфакторные впечатления должны быть.
Ольга Вайнштейн: Похоже на то, что бросалось в ведьминские котлы.
Мария Пироговская: Нет, это же все не сильно пахнет на самом деле. В XVI-XVII веках довольно популярна была так называемая фекальная аптека. В аптечном деле широко использовались вещества животного происхождения, о которых мы сейчас с ужасом читаем —желчь волка, шерсть зайца, разные виды мочи, экскрементов — и нам смешно: это значит, что нам на самом деле очень неприятно, мы пытаемся замаскировать так свою реакцию отвращения. Считалось, что у них разная лекарственная сила в зависимости от того, к какому гуморальному типу принадлежит животное или какие-то его органы. Люди все это на себя не только с удовольствием намазывали, но и употребляли внутрь. Там были еще другие границы отвращения, другое понимание, что в принципе можно употребить в пищу. Идея намазать на себя желчь волка сегодня не вызывает у нас энтузиазма, но употребить ее внутрь еще меньше хочется. С другой стороны, до сих пор жива так называемая вернакулярная народная аптека, где широко используются медвежья желчь и барсучий жир, и люди это употребляют внутрь как лекарство.
Ирина Прохорова: Вот пример из книжки: «В 1666 году Мария Мердрак предложила средство против экземы и для улучшения цвета лица, в состав которого входит „моча юной особы, которая не пьет ничего, кроме вина”». Вот такая экзотика поразительная. В «Цивилизации запахов» есть примеры и употребления мочи внутрь — в качестве лекарства от всяких болезней.
Ольга Вайнштейн: В народной медицине это представление до сих пор живо.
Мария Пироговская: Гораздо более поразительно то, что врачи, которые занимались уриноскопией — диагностикой по виду, цвету, запаху и вкусу мочи, — пробовали мочу больных на вкус. Нам это очень трудно вообразить, но это было нормальной практикой.
Ирина Прохорова: Тут уже дело даже не в обонянии, а в том, насколько так можно было действительно что-то определить.
Мария Пироговская: Они определяли то, на что было настроено их ожидание. Внутри эпохи существовала определенная нозологическая медицинская классификация болезней, и врачи сообразно с ней выискивали симптомы. Если продолжить идею Мюшембле и других историков чувствительности (например, Алена Корбена, о том, что чувства и чувствительность — это тоже результат культурного воздействия, некий продукт социализации и инкультурации, который в нас выращивает общество), тогда ничего в этом удивительного нет. Врачи видели, ощущали, обоняли и чувствовали на вкус те болезни, которые они были готовы почувствовать.
Ирина Прохорова: Интересно, как меняются нравы. Борьба за гигиену проходила с большим трудом не только у крестьян, где, как мы уже говорили, навозная куча около дома — символ богатства, потому что это значит, что у человека есть коровы, лошади и так далее. Более того, не хочется особенно смаковать подобные вещи, но это было еще и очень удобно — люди ходили, так сказать, облегчиться ровно в эти кучи, потому что туалетов и выгребных ям долго не было, а если и были, то чудовищно зловонные и опасные. Стыд и идея о том, что, когда вы идете в туалет, все должно быть закрыто, до недавнего времени была совсем необязательным моментом.
Не могу не привести пример из книжки, в котором принцесса Елизавета Шарлотта Пфальцская, невестка Людовика XIV, вспоминая о пребывании при дворе в Фонтенбло, горько сетует в письме своей крестной. Пардон, нежные чувства сейчас могут быть задеты, но из песни слова не выкинешь: «Мне приходилось испражняться на улице, что меня злит, потому что я привыкла делать это с комфортом, а когда зад ни на что не опирается, никакого комфорта нет. Кроме того, это происходит у всех на виду. Мимо ходят женщины, мужчины, девочки, мальчики, аббаты и швейцарцы». По описаниям очевидцев, очень долгое время прилюдно облегчать свой кишечник и мочевой пузырь было совершенно нормальным явлением. Известно, как в XIX веке замазывали картины XVI-XVII веков, потому что в городских сценах всегда был какой-нибудь мужчина, который либо присел на корточках, либо где-то в углу идет по малой нужде. Эту ситуацию довольно сложно представить в современном мире, а пару-тройку веков назад это было совершенно нормальным явлением.
Мария Пироговская: Представить себе и даже встретить такое можно до сих пор буквально на соседней улице, особенно вечером воскресенья или субботы. Но то, что подобная ситуация у нас вышла за пределы нормы, что это некоторый эксцесс и мы смотрим на происходящее с осуждением, — это совершенно точно. Конфигурации стыда имеют ту же самую культурную динамику, и они меняются со временем.
Ольга Вайнштейн: Я бы добавила, что есть еще такой, так сказать, культурный феномен, как отношение к пуканию. Известно, что, например, в викторианскую эпоху это считалось настолько неприличным, что многие, особенно женщины, терпели изо всех сил, сдерживались, чтобы только не пукнуть в обществе, и тем самым зарабатывали разные болезни пищеварительного тракта. И до сих пор в разных национальных традициях где-то вполне санкционируется пукание как признак нормального пищеварения — например, в Германии, — а где-то это считается очень неприличным. Аналогичным примером может служить отношение к звукам, которые человек издает во время еды. Если в Японии всякие чавканья и хлюпания, пускание слюней считаются хорошим тоном — человек с аппетитом ест, воздавая должное искусству повара, — то в других культурах это табуируется. В свое время меняющееся отношение к проявлениям телесности и их табуирование исследовал Норберт Элиас. И запахи очень встраиваются в эту культурную парадигму табуируемых телесных проявлений.
Ирина Прохорова: Я недавно где-то читала, что во время Второй мировой войны американцы пытались изобрести оружие, которое не столько убивало, сколько создавало чудовищный запах, который, если он попадал на тело, потом нельзя было очень долго отмыть. Его как раз пытались применять против японцев, для которых плохой запах тела — это табу. Идея была в том, что если использовать такое оружие, то войска просто не вынесут унижения и потеряют боевой дух. Но потом изобрели атомную бомбу, и эта идея не была реализована. Но интересно, насколько сильна культура обоняния, если даже пытались изобрести такое страшное садистское оружие.
Мария Пироговская: Интересно, что они, видимо, считали, что если американский солдат нечаянно вымажется в этом же самом средстве, то он своей боевой дух не потеряет. Это довольно забавная пресуппозиция.
Ирина Прохорова: Да, он будет ужасно пахнуть, но это не считается таким страшным позором, тем более во время войны — в окопах, там не до запаха розы. А считается, что именно в культуре, где табуирован любой неприятный запах, это будет равноценно гражданской смерти.
Ольга Вайнштейн: То есть это попытка сломить символическое достоинство человека, исходя именно из национальной психологии.
Ирина Прохорова: Последний вопрос. В настоящее время в европейской культуре, широко понимаемой, куда Россия, конечно, входит, можем ли мы считать, что унификация ольфакторных понятий все-таки произошла, что более или менее есть консенсус относительно представлений о приятных и неприятных запахах?
Ольга Вайнштейн: Я думаю, что в общем смысле, конечно, да, то есть каких-то особо ярких экспериментов с неприятными запахами в современной парфюмерии, наверное, нет. Но были знаменитые Odeur 71 — запах горячей пыли или запах мотора, запах бензина. Сейчас стали очень популярны монозапахи, то есть не многосоставные ароматы, а чистые — то, что выпускает Demeter или линия Aqua Allegoria Guerlain, которая пользуется неиссякаемой популярностью. Какое-то пространство для развития есть.
Я бы отметила еще одну тенденцию, но она касается скорее парфюмерной рекламы: запах связан с эмоцией. Потому что эмоция — это такая же ценность в современной культуре, как, скажем, внимание или наше время. В рекламе запахов очень часто делается ставка на уникальность переживания, на эмоцию, которая пробуждается запахом. Это новое понимание роскоши — видимо, на фоне пресыщенности общества потребления люди пускаются на поиск изысканных эмоций, в том числе — через духи.
Мария Пироговская: Я бы прокомментировала тот же вопрос не с точки зрения парфюмерного рынка и его колебаний, а с точки зрения нашей общей социализации внутри этих ощущений, как мы с ними обращаемся. С одной стороны, действительно, интернационализация, глобальный мир, который вдруг сейчас перестал быть глобальным и так замер на полушаге, а с другой стороны, все равно есть очень сильная инерция того воспитания и того социального и культурного опыта, который существует внутри европейских обществ. Даже в США ольфакторные культуры внутри общества будут очень разными, запахи китайского квартала — чайнатауна — и запахи итальянского квартала будут разными, и восприниматься они внутри общества будут по-разному. Точно так же будет, если мы возьмем какую-нибудь близкую к нам культуру — скажем, немецкую. Все равно будет довольно сильное различие в зависимости от того, какой лейбл мы наклеиваем на конкретный запах, какой социальный контекст с ним связан.
Был очень интересный эксперимент, в котором я принимала участие в качестве подопытного. Если пустить в группе людей разного происхождения — американцы, немцы, французы, русские — бутылочку с изовалериановой кислотой и написать на ней «пищевой запах», мы сразу будем по нему опознавать, кому что близко: кто-то опознает мисо-суп, кто-то сыр пармезан. А если на ней написать «телесный запах», то, чувствуя тот же самый запах, люди будут вспоминать школьную раздевалку, и это в основном люди с советским опытом, у которых этот травмирующий аромат школьной раздевалки въелся в подкорку намертво, а другие будут вспоминать прачечную в подвале жилого дома — это типично американская история, которой в России нет. Это запахи грязного, чистого, сушащегося, стирающегося белья. Здесь мы видим, как на наше восприятие запахов мощно влияют язык и культурное наклеивание ярлыков. Так что, я думаю, разнообразие неистребимо.