«Нужно захватить воображение будущего читателя»
Интервью с Ириной Кравцовой, главным редактором Издательства Ивана Лимбаха
Прежде чем говорить о том, как вы начали работать в Издательстве Ивана Лимбаха, хотелось бы узнать немного о вашем читательском и академическом бэкграунде. С чего началась ваша читательская биография?
Моя читательская биография самая обычная. Сначала были русские сказки — года в четыре я уже читала. Помню первую книгу, которую взяла в библиотеке: «Храбрый Персей» — после этого увлеклась греческими мифами. Потом стали нравиться приключения: Фенимор Купер, Майн Рид, научная фантастика. Важным было не то, что именно я читала, а сам процесс чтения как погружение в неведомое. В восьмом классе, как это обычно бывает, прибавились стихи. Двухтомник «Путешествие в страну Поэзия» дал понять, что целый ее пласт находится в каком-то тайном месте. И вот на первом курсе университета, это был 1977 год, ко мне в руки попали переплетенные в ситец самиздатские книги поэтов Серебряного века.
Увлечение Серебряным веком в университетские годы для многих становится определяющим. Какие авторы вас в то время больше всего привлекали?
Огромное впечатление было от Цветаевой, восхищала ее предельная искренность. Абсолютно нездешним казался Мандельштам, как, впрочем, и Блок, который в программе, конечно, был, но почти в безвоздушном пространстве, вне литературного контекста, — сейчас это покажется диким, но ведь в советское время символизм не приветствовался и, следовательно, не изучался. Борис Валентинович Аверин, один из наших преподавателей, за пределами учебных часов вел еженедельный трехчасовой спецкурс, на котором свободно и вдохновенно рассказывал о философских взглядах Владимира Соловьева и символистов. Всех желающих аудитория не вмещала. Позже, в середине 1980-х, я писала диплом об Александре Блоке, и он на годы сделался моим спутником в горе и в радости, и сейчас, когда перечитываю его стихи, возникает ощущение, будто я возвращаюсь домой; нередко какие-то строки всплывают в памяти. Вот недавно пригрезилось, что, наверное, перочинный нож в стихотворении Бродского «Чаша со змейкой» — из блоковского: «Случайно, на ноже карманном, / Найди пылинку дальних стран, / И мир опять предстанет странным, / Закутанным в цветной туман». То есть «достанем перочинные ножи, / чтоб мир не захватили новички, / коверкая слова и падежи» — это высказывание в защиту культуры, к которой, несомненно, принадлежал и Блок.
Кстати, Бродского, напечатанного на папиросной бумаге, мы вовсю читали в университетские годы; то есть, помимо того, что обычно читают на филологическом факультете, в мою жизнь прочно вошла вытесненная из официального канона литература. Но каким-то загадочным образом это чтение воспринималось как нечто совершенно естественное, и самиздатские книги читались в метро, в троллейбусе — у меня не было ощущения, что это нужно скрывать. Оно возникло лишь один раз, когда мои сокурсники записали на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ»: книгу им дали на короткое время, и они решили, что так будет проще. Мы слушали дома эту запись, и тут в дверь позвонили. Ощущение было не из приятных.
А чем вы занялись после университета?
Я довольно долго училась, переводилась с дневного на вечернее, а потом и на заочное отделение, поскольку в 1980 году у меня родилась дочь — и учебу через некоторое время пришлось совмещать с работой. Городское экскурсионное бюро было единственным местом, позволявшим регулировать продолжительность рабочего дня. Мы могли вести экскурсию либо в первой, либо во второй его половине, могли меняться. Я несколько лет водила литературные экскурсии: «Пушкин в Петербурге», «Блок в Петербурге», «Тютчев в Петербурге». Наверное, именно тогда я научилась говорить о литературе с самыми разными людьми, ведь в те годы экскурсии заказывали по разнарядке, и мы имели дело со школьниками, рабочими, технической интеллигенцией, даже с пациентами психоневрологических интернатов. Действие волшебной силы искусства было достаточно наглядным. Я не иронизирую: люди действительно чаще всего прощались в совершенно другом настроении, нежели были в начале, когда явственно ощущался момент принуждения.
Потом, в конце 1988 года, я услышала, что в Ленинграде собираются открыть музей Анны Ахматовой. Мы с подругой пришли к Белле Нуриевне Рыбалко, директору музея Достоевского, под эгидой которого (сначала как филиал) учреждался новый музей, и предложили свою помощь. Мы знали, что его нужно буквально собирать, потому что фонда, который мог быть положен в основу экспозиции, не существовало. Белла Нуриевна, человек абсолютно непредвзятый, сказала нам: пожалуйста, помогайте, ничего вам не обещаю — все будет зависеть от того, как вы себя проявите. Нас было пять человек, включая Татьяну Николаевну Воронихину, опытного художника, которая работала над оформлением многих музеев, в том числе и музея Пушкина на Мойке.
В течение года жизнь совершенно переменилась, стала очень интенсивной и страшно интересной. Все нужно было делать с нуля: придумывать концепцию, заниматься поиском экспонатов, работать в архивах.
Думаю, собирать экспонаты для такого музея было нелегко.
Фонды складывались главным образом из частных источников. Прежде всего нужно было познакомиться с кругом людей, знавших Ахматову. В Петербурге это семья Пуниных с ее неоднозначной репутацией, связанной с отношением к архиву и Льву Николаевичу Гумилеву после смерти Анны Андреевны. Поначалу Пунины неохотно пополняли будущий музей, но позже, когда его центром стал мемориальный кабинет Николая Николаевича, их отношение изменилось; были еще семейство Рыбаковых, семья Срезневских, Томашевских; балерина Татьяна Михайловна Вечеслова и многие, многие другие. Роман Давидович Тименчик довольно интенсивно нас консультировал и подарил музею куклы, сделанные Ольгой Судейкиной. Некоторые вещи пришли и от москвичей: огромную помощь оказали Лев Владимирович Горнунг, фотограф, которому принадлежит большая серия фотографий Ахматовой 1930-х годов, и Эмма Григорьевна Герштейн.
Другой источник — коллекции. Изначально музей не задумывался как мемориальная квартира, концепция изменилась уже после моего ухода. А тогда нам было важно найти произведения графики и живописи, которые создавали бы определенный контекст восприятия поэзии. В зале, посвященном «Реквиему» (бывшем кабинете Пунина), было всего два экспоната: диптих Лентулова «Снятие с креста» и деревянная скульптура Ахматовой работы Нины Жилинской из запасников Русского музея. Они удивительно соотносились между собой — угловатый Христос Лентулова и такая же угловатая, словно расщепленная, скульптура. Но главное — в комнате звучал голос Анны Андреевны, читающей «Реквием». Все это производило сильное впечатление. А сейчас там стоят вещи Н. Н. Пунина.
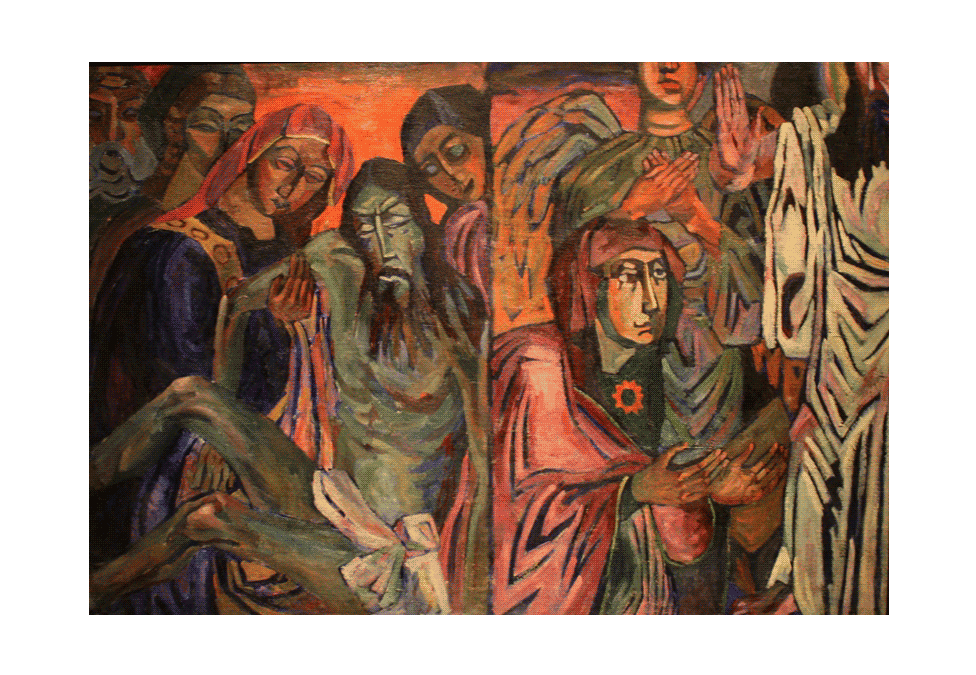
Аристарх Лентулов «Снятие с креста. Диптих» 1910
Фото: cultobzor.ru
Коллекционеры и государственные хранилища шли вам навстречу?
Общение с коллекционерами — отдельная история. Это совершенно особый тип людей. Общение напоминало психологический марафон, потому что приходилось много рассказывать об Ахматовой, не все знали о ней достаточно. В коллекциях были графика и живопись, которую мы хотели приобрести для музея, но владельцы не понимали, зачем это нужно. А для нас было очень важно, например, чтобы в музее были работы художника Владимира Гринберга, на которых изображен серый, холодный, безлюдный Ленинград 1930-х годов, или Василия Калужнина, который рисовал блокаду. У него есть небольшая работа, запечатлевшая эвакуацию эрмитажных картин, и это буквально соотносилось со строками Ахматовой «словно вышедший вдруг из рамы / Новогодний страшный портрет».
Вообще, как вы понимаете, для того чтобы заполнить шесть залов, хоть и небольших, требовались невероятно интенсивные поиски — к тому же музей мы создали менее чем за год. Архивы, как и Российская национальная библиотека, разрешили скопировать рукописи Анны Андреевны. Мы нашли гениального копииста, у него была огромная коллекция бумаги той поры, так что с этой стороны все вышло идеально.
К началу работы в издательстве у вас уже был какой-то редакторский опыт?
Да, небольшой. Во-первых, в музее мы подготовили и напечатали три сборника материалов научных конференций (одна была посвящена Гумилеву, вторая — Кузмину, третья — Хлебникову). Во-вторых, после ухода из музея в 1993–1994 годах я работала в редакционно-издательском отделе Российской национальной библиотеки (тогда она называлась, как и в пушкинские времена, Публичной), там прошла интенсивный курс редакторского дела. И еще был опыт внештатной работы в издательстве «Северо-Запад», многие филологи прошли тогда через него.
Мне уже приходилось рассказывать о том, что в музее Ахматовой я познакомилась с Сергеем Владимировичем Дедюлиным, литератором и библиографом, издателем самиздатских журналов; в 1981 году под давлением КГБ он эмигрировал во Францию. Он хотел найти издателя для составленного им журнала «Око», и я предложила Ивану Лимбаху поддержать его идею. Собственно говоря, это и стало своеобразной увертюрой. Ивану понравилась идея издательства, и я познакомила его с талантливыми филологами Ингой Даниловой и Натальей Бочкаревой, поскольку в тот момент по семейным обстоятельствам переезжала в Москву — работать удаленно тогда не было принято.
На протяжении первых пяти лет издавали по одной-две книги в год, это были поэты и писатели, связанные со «второй культурой», о которой я узнала, пожалуй, только с появлением издательства. Ничего удивительного в этом нет, в то время информация распространялась странными путями, и поэтому, например, сообщество «Клуб-81», о котором мы теперь издали книгу, прошло как-то мимо моего дружеского круга. Хорошо помню «Сайгон», его атмосферу, но не конкретные имена: пожалуй, авторы «второй культуры» отчетливо прозвучали только на рубеже восьмидесятых — девяностых, когда начал публиковаться «Вестник новой литературы», издававшийся Михаилом Бергом и Михаилом Шейнкером. Вышло всего восемь номеров, но на поверхность был поднят большой культурный пласт. Благодаря «Вестнику» первая редакция Издательства Ивана Лимбаха в середине 1990-х годов обратила внимание на некоторых авторов, книги которых и были напечатаны первыми. Это Андрей Битов — сейчас многие уже забыли, что он вышел из той же шинели; Михаил Берг, Леонид Гиршович с его «Обмененными головами» и «Чародеями со скрипками», поэты Лев Рубинштейн, Тимур Кибиров, Дмитрий Александрович Пригов, Олег Григорьев, книгу которого мы регулярно допечатываем с 1997 года.
Тиражи расходились медленно, никакого пиара не существовало — правда, книга Битова получила премию «Северная Пальмира» и поэтому прозвучала достаточно громко. Но поэтические книги сами заявили о себе, они были яркими в буквальном смысле, а еще крупноформатными и потому очень заметными.
С чего для вас началось Издательство Ивана Лимбаха?
Я присоединилась к издательству в 2000 году, и мне захотелось сделать книгу забытого поэта Серебряного века Василия Комаровского. В ней удалось собрать буквально все — его стихи, прозу, письма, рисунки, воспоминания, статьи о нем. Михаил Леонович Гаспаров прокомментировал рассказ из римской жизни «Sabinula», статьи для книги написали Владимир Николаевич Топоров, Томас Венцлова, Татьяна Владимировна Цивьян. Стихи мы напечатали по старой орфографии: для нас это было принципиально, хотелось соблюсти аутентичность текстов, поскольку мы впервые представляли Комаровского читателю, — а уж потом пусть издают как хотят. Все-таки годы, связанные с музеем Ахматовой, даром не прошли, было понятно, что как минимум два замечательных поэта, Комаровский и Владимир Шилейко, не изданы и не прочитаны. Поэтому и возникла идея собрать о Комаровском все, что на тот момент было возможно. Участниками этого проекта стали Игорь Булатовский и Андрей Устинов, с которым мы работали в музее, именно они подготовили архивные материалы. Мы издали большую красивую книгу (теперь это уже библиографическая редкость), а чуть позже я поучаствовала и в подготовке книги стихотворений Владимира Шилейко.
В какой момент издательство обратилось к переводной литературе?
Изначально мы ставили перед собой только одну задачу — выбирать достойные книги. Но к началу 2000-х стало понятным, что, выпуская только забытых русских авторов, мы не станем полноценным издательством, поскольку заниматься масштабно научными изданиями мы не могли, а русские авторы довольно быстро попали в орбиту «Вагриуса», «Эксмо», АСТ и других. Мы поняли, что если смотреть на лакуны, то нужно обратить внимание и на зарубежную литературу. Так возник трехтомник Маргерит Юрсенар и издания Жоржа Перека. Хотя два романа Юрсенар были напечатаны на излете советской поры, но в том объеме, за который взялись мы, ее произведения — новеллы, повести, эссе — были изданы впервые. Что касается Перека и других сложных авторов, то для них требовалось совпадение времени и места, то есть должны были родиться переводчики, которые хотели бы (главное — могли бы) перевести такого писателя. Потому что огромное количество зарубежных писателей в действительности убито переводами, и это невероятно грустно, поскольку именно сложные, глубокие писатели выходят за пределы двузначной логики (хорошо/плохо) и тем самым помогают нам искать слова, — а ведь нам часто не хватает слов, чтобы описать тот мир, в котором мы живем.

Мы приняли верное решение — работать с лучшими. Мне как-то интуитивно с самого начала было понятно, что если начнем экономить на переводе, то у нас ничего не получится. Я очень благодарна Юлиане Яковлевне Яхниной, Борису Владимировичу Дубину, Анатолию Михайловичу Гелескулу, которые не только подготовили для нас по нескольку книг, но и познакомили с лучшими переводчиками с французского, испанского, польского языков. Польские книги в издательстве появлялись при живейшем участии Ксении Яковлевны Старосельской. Благодаря общению с журналом «Иностранная литература» и Татьяной Баскаковой в нашем портфеле оказались романы Ханса Хенни Янна и Арно Шмидта. Повезло нам и с переводчиком с итальянского: к нам обратился Петр Епифанов, переводчик не только с итальянского и с древних языков, но, как выяснилось впоследствии, и с неаполитанского языка. Он перевел «Сказку сказок» Джамбаттисты Базиле [«Горький» писал об этой книге тут. — Прим. ред.], которая стала одной из самых продаваемых наших книг (к сожалению, сейчас мы пока не можем допечатать очередной тираж). Случай Базиле показывает, что даже литературный памятник начала XVII века может легко найти своего читателя, если перевод блестящий. Казалось бы, что нам эти сказки, сюжеты которых мы знаем из последующих переложений Шарля Перро и братьев Гримм? Но первоисточник настолько свежо и ярко прозвучал по-русски, что книга стала желанной.
«Лимбах», помимо прочего, славится нон-фикшном — вы берете не количеством, а качеством. Как подбираются книги для этой линейки?
Очень тщательно. Прежде всего мы подробно беседуем с будущими переводчиками, поскольку книги приходят к нам главным образом благодаря их советам. Переводчики, с которыми мы работаем, — это уже не почтовые лошади, а настоящие локомотивы просвещения. Во всяком случае, это люди, которые не просто хорошо ориентируются в зарубежных изданиях, но, главное, они умеют выбрать то, что должно появиться по-русски. Большой сборник автобиографических интервью с Леви-Строссом вышел несколько лет назад, но, учитывая, что почти никаких публикаций, связанных с жизнью Леви-Стросса, или его комментариев по поводу собственных трудов на русском не выходило, почему было не издать книгу десятилетней давности? И как она может утратить актуальность, если важна для понимания мировоззрения и научных взглядов знаменитого антрополога? То же можно сказать и о книге Йоана Петру Кулиану «Эрос и магия в эпоху Возрождения», написанной четверть века назад. Ее значение в том, что ученик Мирчи Элиаде, замечательный мифолог и религиовед, проживший короткую, но яркую жизнь, изучал магию, имея в виду работу современных медиа, и, несмотря на то, что книга сугубо научная и снабжена фундаментальным комментарием, она интересна нам теми аллюзиями, которые возникают по ходу чтения и по-особому высвечивают сегодняшний день. Может быть, с этим связана ее успешная читательская судьба: люди понимают, что они читают не просто историю, — сегодня они чувствуют себя объектами манипуляций и хотят понять, почему это происходит.
Часто получается, что одна книга приводит за собой другую, — мне важно, что отмечают авторы, над которыми я работаю. Кстати, книга Кулиану обнаружилась как раз в одной из книжных ссылок (но это еще что, порой из примечания петитом возникает герой романа, как это случилось с мексиканским проповедником братом Сервандо у кубинского писателя Рейнальдо Аренаса).

Ирина Кравцова и Борис Дубин (справа) на Летнем книжном фестивале
Фото: предоставлено Ириной Кравцовой
В последние годы нам важно издавать книги, затрагивающие моральную проблематику, книги о том, как не оказаться на стороне зла. Мы печатали Симону Вейль, Себастьяна Хафнера, Петера Слотердайка; издадим «Текучее зло» и «Моральную слепоту» Зигмунта Баумана и Леонидаса Донскиса; «Образ жизни: о многообразии человеческого достоинства» швейцарского философа Петера Бири. Издаем мы и книги-противоядия против различных общественных вирусов — таковы «Толстокожая мимоза» Адама Надашди и «Почему я не христианин» Курта Флаша.
В целом наш издательский репертуар очень разнообразен, мы занимаемся поисками во многих областях гуманитарного знания: в культурологии, истории, философии, музыке, кино. Поскольку издательство маленькое, наши книги должны привлекать самую разную аудиторию.
Как бы вы описали стратегию выживания маленького независимого издательства?
Думаю, нужно суметь сделать книгу желанной — она должна быть прежде всего хорошо издана, чтобы захватить воображение будущего читателя; мы должны найти авторов, с которыми интересно вести диалог. Едва ли не главное — точный выбор. Нужно, чтобы книга была неожиданной, а издательство при этом сохранило профиль, продолжая те направления, по которым нас узнают. Кроме того, мы должны заниматься креативным пиаром: у нас нет бюджета на рекламу, поэтому мы работаем за доброе слово, отправляем потенциальным рецензентам наши книги — и рады, что на них обращают внимание. Мы активно работаем в социальных сетях, проводим много презентаций, а в последнее время нередко сочетаем их с концертами, договариваясь с дружественными коллективами; это нравится людям — и включается сарафанное радио.
Анонсируйте, пожалуйста, что-нибудь особенно интересное напоследок. Над чем вы сейчас работаете?
Я очень надеюсь, что нам удастся издать третий том дневников Михаила Кузмина — с 1917-го по 1924 год. Он в целом готов, но встал вопрос восполнения серьезных пробелов, связанных с пореволюционным временем. Николая Богомолова не удовлетворяет качество именного указателя и комментариев просто потому, что есть лакуны и по периодике, и выяснению места жительства, и аннотированию тех персонажей, которых упоминает Кузмин. Над этим сейчас ведется работа.
Надеюсь, через год мы закончим издание трилогии Ханса Хенни Янна: вышло три книги, но в действительности мы пока издали только два тома из трех — Татьяна Баскакова переводит сейчас последний из них, «Эпилог».