«Ни о каком массовом покаянии в первое послевоенное десятилетие речи не было»
Интервью с Николаем Власовым, автором книги «Немцы после войны: как Западной Германии удалось преодолеть нацизм»
Послевоенное время стало для немцев важнейшим периодом, в течение которого общество должно было научиться существовать по-новому. Как ему это удалось? Этот вопрос стал отправной точкой для петербургского историка Николая Власова, который написал книгу о том, как Западная Германия жила после 1945 года: училась говорить о вине, налаживать демократию и возвращать себе нормальность. По просьбе «Горького» с ним поговорила Дарья Матяшова.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
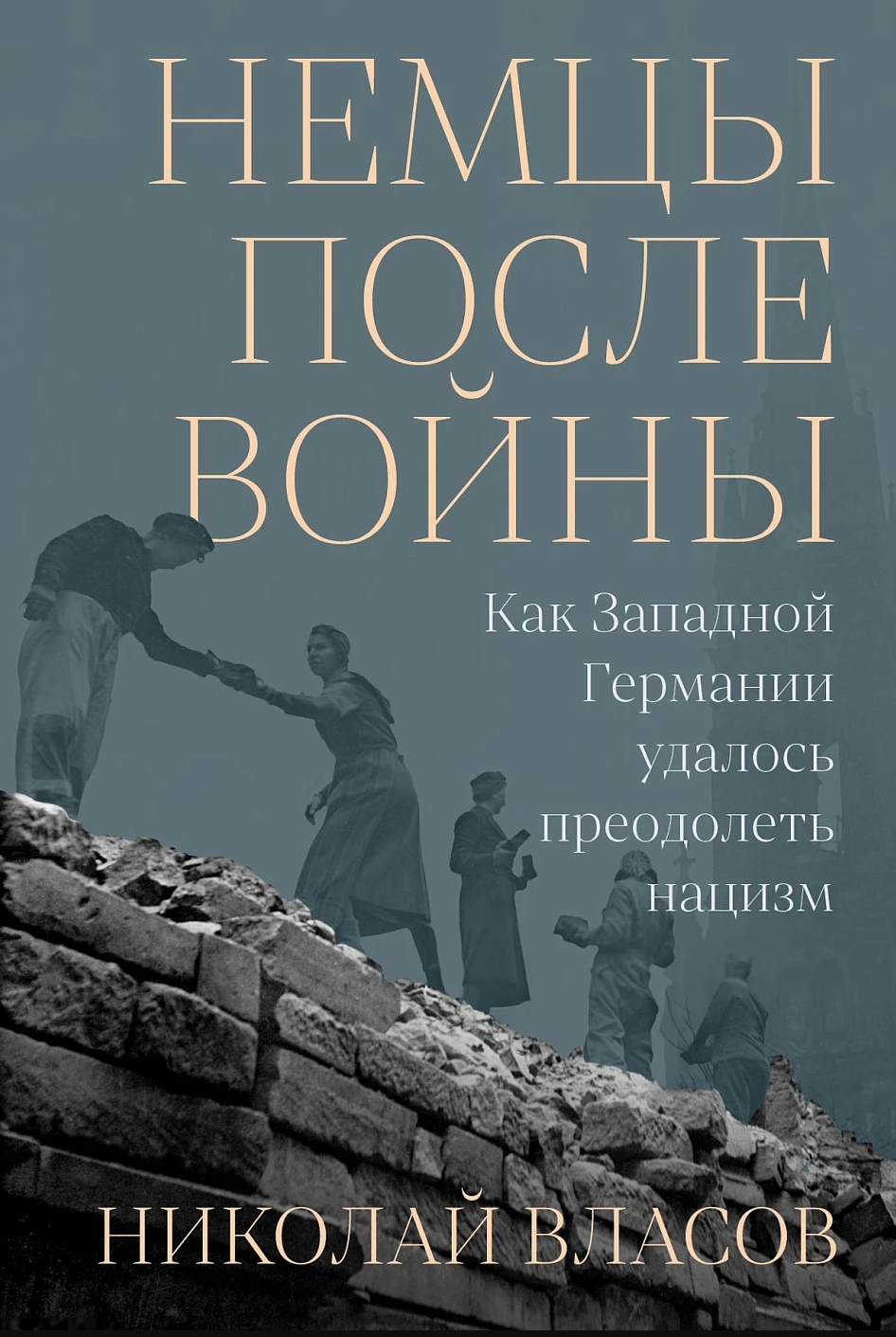
— До «Немцев после войны» вы были известны главным образом как специалист по истории кайзеровской Германии, ее дипломатии и внутренней политике. Сложно ли было переключаться на изучение другого периода и, по сути, другого общества?
— Действительно, область моих научных исследований — Германия последней трети XIX века. Так, в 2021 году вышла моя книга «Россия глазами Бисмарка» о том, как «железный канцлер» представлял себе нашу страну. За следующие полвека немецкой истории многое изменилось, и тем не менее масштаб этих изменений не стоит и переоценивать. Достаточно вспомнить, что первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр пошел в гимназию, когда Бисмарк еще стоял у руля, и сделал политическую карьеру именно в кайзеровской Германии; дистанция между двумя эпохами оказывается меньше, чем жизнь одного человека. Поэтому каких-либо серьезных сложностей я не испытывал, тем более что мог опереться на труды зарубежных коллег, которым принадлежит целый ряд очень качественных исследований по истории послевоенной Западной Германии.
— Что помогало «сократить дистанцию»: знание культуры? Понимание принципов, на основе которых функционировали формальные и неформальные институты?
— Больше всего, наверное, помогало понимание того, что взгляды и настроения общества не возникают на пустом месте — они исторически обусловлены. Сегодняшний день во многом сформирован вчерашним, история — это тесное переплетение причинно-следственных связей. Кайзеровская эпоха оказала огромное влияние на германское общество последующих десятилетий.
— Что стало толчком к работе над «Немцами после войны»? Что мотивировало в научно-исследовательском плане, что — в личном?
— Как это обычно бывает у историков, в начале пути лежал личный интерес. Мне захотелось для самого себя разобраться, как и почему изменилось западногерманское общество в середине прошлого века. Сразу же выяснилось, что на русском языке на эту тему не написано и не опубликовано почти ничего. Есть работы специалистов об «экономическом чуде», есть биографии Аденауэра, есть исследования Нюрнбергского процесса и политики оккупационных держав, но вот само немецкое общество оставалось белым пятном.
Читая работы зарубежных исследователей, я затем писал на их основе небольшие заметки в своем блоге — в стиле «десять тезисов о послевоенной Германии из книги Вольфганга Бреннера». Получалась такая своеобразная рубрика «я для вас почитал». Неожиданно эти записи стали довольно популярными, и я понял, что тема интересует не только меня, но и многих людей в нашей стране. Возможно, решающим стал совет одного из уважаемых мной старших коллег: как можно скорее написать о послевоенной Западной Германии небольшую, но качественную книгу для массового читателя.
— Была ли у написания «Немцев после войны» большая цель, выходившая за рамки чисто научные — скажем, развенчать мифы о денацификации?
— «Развенчание мифов» — это, конечно, всегда очень красиво звучит. И действительно, по поводу послевоенной Германии у нас в стране существовала — и существует по сей день, такие вещи мгновенно не меняются — масса заблуждений вроде того, что все немцы в 1945 году сразу и полностью переосмыслили свои взгляды, или что их насильно перевоспитали американцы, или что сначала западные немцы покаялись за свое прошлое, а только потом смогли построить демократию.
Беда в том, что зачастую эти мифы ложились в основу более масштабных рассуждений, касавшихся других стран и эпох, с далеко идущими выводами. Поэтому моей главной задачей было показать, как все обстояло на самом деле, какой сложной, нелинейной, местами не слишком привлекательной оказалась реальность.
— Не могли бы вы подробнее раскрыть тему мифов — в частности, мифа о покаянии как основе для немецкой демократии? Как вы его деконструируете — с помощью каких кейсов и примеров? Наверняка это стало для вас сложной задачей. Ведь популярные элементы дискурса о покаянии довольно эффектны — здесь и выступления Томаса Манна с призывами к пробуждению совести, и Варшавское коленопреклонение Вилли Брандта, и фотографии простых немцев, хоронивших жертв концлагерей.
— На самом деле это достаточно широко известный факт — ни о каком массовом покаянии в первое послевоенное десятилетие речи не было. Призывы Томаса Манна остались в значительной степени неуслышанными или вызывали у слушателей раздражение. Большинство немцев предпочитали считать себя жертвами — жертвами Гитлера, жертвами бомбежек, жертвами поражения… Нам это кажется возмутительным — ведь миллионы людей были замешаны в преступлениях нацистов, охотно служили режиму. Но таково свойство человеческой психики — далеко не все способны посмотреть в глаза неприятной правде и признать собственные заблуждения, не говоря уже о собственной вине. Впрочем, в этом «образе жертвы» был и позитивный момент: он не допускал идеализации недавнего прошлого. Именно поэтому власти ФРГ потакали таким настроениям; Аденауэр и его команда понимали, что другого народа у них нет и не будет, и стремились добиться главной цели — сделать так, чтобы большинство западных немцев поддерживали новый режим, а не мечтали о возвращении старого.

— Другой пласт мифов о денацификации интересен мне как начинающему специалисту по международным отношениям. Речь о представлениях, связанных с ролью союзников в целом и США в частности. Они довольно полярны и порой противоречат друг другу: одни считают, что американцы переформатировали и демилитаризовали немецкую культуру, другие — что роль новой сверхдержавы свелась к экономической помощи. Какое место в «Немцах после войны» вы уделяете союзникам? Как находите баланс между анализом немецкого общества — самодостаточного объекта исследований — и «внешним фактором» оккупационных властей?
— Политика западных оккупационных держав — это фактор, который ни в коей мере нельзя сбрасывать со счетов. Вы совершенно правильно обозначили ту бинарную модель, в рамках которой часто ведутся дискуссии: «американцы сделали все» против «американцы ничего не смогли сделать». По правде говоря, истина лежит посередине. Ни одно общество не в состоянии измениться под внешним давлением, его не получится насильно «перевоспитать» помимо его воли. Собственно, примеры такого неудачного «перевоспитания» мы в истории последних десятилетий находим сплошь и рядом. Для того чтобы общество изменилось, необходимо наличие соответствующих сил и предпосылок внутри самого общества. К тому же нужно помнить, что западные державы-победительницы не имели готовых рецептов, действовали наощупь, местами получая неожиданный и нежелательный для них результат. Американцы не смогли (хотя очень хотели) провести реформу немецких школ и сделать бейсбол популярным в Германии видом спорта. Что уж говорить о кардинальном изменении мировоззрения миллионов людей! В то же время именно западные державы-победительницы на финальном этапе оккупации заложили основы той политики, которую в дальнейшем будет проводить Аденауэр, а затем выступали в роли гарантов демократического развития ФРГ.
— В последние годы книжный и книгоиздательский рынок в России пережили бум литературы о Третьем рейхе («Волчье время», «Мобилизованная нация», «Свидетели войны», «Земля, одержимая демонами»). В чем, на ваш взгляд, сильные и слабые стороны этих работ? Пытались ли вы в «Немцах после войны» компенсировать их недостатки или повторить достоинства?
— Почти все эти книги посвящены Германии до 1945 года, то есть другому периоду истории; я рассматриваю то, что было после. Исключение — «Волчье время» Харальда Йенера. Это замечательная книга, и очень здорово, что ее перевели и издали в России. Йенер ставит перед собой цель показать послевоенную Германию (не только Западную) во всем ее многообразии. И все же у меня задача другая — ответить на конкретный вопрос о трансформации западногерманского общества, ее причинах и характере в контексте экономики, политики, международной ситуации… Поэтому и пишу я о другом, наши книги скорее дополняют друг друга.
Следует отметить, что примерно месяц назад на русском языке вышла еще книга Франка Трентманна «Из тьмы». Она по своей тематике ближе к «Немцам после войны», но охватывает гораздо больший период времени — вплоть до наших дней — и, соответственно, намного объемнее и одновременно не погружает читателя так глубоко в первое послевоенное десятилетие.
Одна из существенных особенностей моей книги — я писал именно для российского читателя, учитывая уже имеющиеся знания и представления и отвечая на те вопросы, которые — как я понял по комментариям в моем блоге — больше всего волнуют соотечественников.
— Ваша книга выстроена по хронологическому принципу. Почему вы остановились именно на такой схеме изложения материала, а не, скажем, на сторителлинге или делении текста по сферам жизни отдельных людей? Например, в «Свидетелях войны» Николас Старгардт, несмотря на общий хронологический ход исследования, выделяет несколько «архетипичных действующих лиц» — скажем, члена «Пиратов эдельвейса», дочь социалистов, еврейского мальчика из Берлина и других персонажей.
— Я рассказываю историю общества, а оно, естественно, живет во времени. Да, можно было бы раскрыть тему, например через несколько избранных биографий. Но такой прием хорош, на мой взгляд, когда уже существует определенная литература по теме, и ее хочется дополнить чем-то новым и свежим. Два с лишним года назад, когда я начал писать «Немцев после войны», дополнять было нечего — на русском языке таких книг не существовало.

— Во время написания «Немцев после войны» был ли у вас доступ к первичным источникам — оригинальным архивным документам? Насколько это в целом было важно? Как повлияло на процесс работы и на итоговый продукт?
— С самого начала я не ставил перед собой цель сказать нечто новое в масштабах мировой науки. «Немцы после войны» — научно-популярный текст для массового читателя; я здесь выступаю не в качестве ученого-исследователя, а в роли популяризатора и просветителя. Безусловно, я работал с источниками — официальными документами, воспоминаниями, письмами, данными опросов… Но задачи проводить обширные архивные изыскания передо мной не стояло — тем более что, как я уже говорил, тема хорошо исследована зарубежными коллегами.
— В своей работе вы стремились к объективности, но читатель (особенно современный российский) может при ознакомлении с работой вступить на путь проведения исторических параллелей и аналогий, не всегда ведущих к истинным умозаключениям. Как вы сами справлялись с тем, чтобы мыслить в рамках принципа историзма и не впадать в чересчур грубые обобщения?
— Это очень хороший вопрос, и он касается одной из фундаментальных проблем исторической науки. Может ли историк полноценно раскрыть прошлое? Или он обречен видеть его искаженным, поскольку сам находится в совершенно другом времени — со своими ценностями, представлениями, проблемами, которые неизбежно влияют на восприятие былого? Скажем, писать про гражданские войны в Риме — и воспринимать их через призму опыта гражданских войн ХХ века, своего собственного отношения к гражданским войнам?
Здесь можно было бы пуститься в долгие рассуждения, но они вышли бы далеко за рамки нашего интервью. Я придерживаюсь точки зрения, согласно которой объективное знание существует и достижимо для исследователя, хотя путь к нему может оказаться весьма непростым. Этот принцип помогал мне в том числе в работе над книгой.
В некоторых рецензиях на «Немцев после войны» действительно проводились прямые параллели с нашими днями и делались те самые далеко идущие выводы. Какая доля истины в них содержится, покажет время.
— А насколько вообще исторические аналогии помогают познавать социальные процессы в других странах или временных отрезках?
— Я всегда выступал против поверхностного отождествления разных ситуаций и упрощенного понимания исторического опыта как некого сборника готовых рецептов. История никогда не повторяется в точности, и дает она не рецепты, а подсказки и пищу для размышлений. Поэтому задача историка — как можно точнее и объективнее исследовать этот конкретный опыт.
Обращаться к историческому опыту важно и нужно абсолютно в любой ситуации. Нельзя сказать, что ничто не ново под луной; но очень многое действительно не ново — похожие люди, похожие ситуации, похожие проблемы. Однако в поисках уроков истории важно не совершить грубые ошибки, которые сделают эти уроки не просто бесполезными, а вредными.
Первая, и главная, ошибка, самая распространенная и катастрофическая — поиск с заранее заданным результатом. Когда вопрос сознательно или бессознательно формулируется не в форме «какие выводы мы можем сделать из прошлого?», а в стиле «где бы мне найти подтверждение нужным мне выводам?». Поскольку прошлое большое и многогранное, да еще и интерпретироваться может по-разному, проблем с поиском исторических подтверждений обычно не возникает — особенно если есть готовность искажать историю, вычеркивая из нее все неудобное, и подбирать только нужные факты. Занимаются этим, увы, люди самых разных взглядов, причем многие даже не понимают, что создают мифы.
Вторая ошибка, о которой я уже упомянул выше, — считать, что прошлое в точности повторяется, и ждать буквального совпадения двух ситуаций (а если совпадения хоть в чем-то нет — ставить крест на любых сравнениях). На самом деле любая историческая ситуация индивидуальна, но это совершенно не повод бросаться в противоположную крайность. Важно понимать, чем исторические ситуации похожи, а чем отличаются, чтобы наши аналогии были корректными. Часто два события по одному параметру можно сравнивать, а по другому это совершенно некорректно и бессмысленно.
Наконец, третья ошибка, отчасти вытекающая из второй, — искать в прошлом готовые рецепты. Уроки прошлого, как правило, дают нам очень ценные намеки, версии, пищу для размышлений. «Из двадцати похожих ситуаций восемнадцать закончились вот так, что дает нам основания считать, что сейчас все закончится иначе?»; «В похожей ситуации сработало такое-то интересное решение, давайте подумаем, сработает ли оно сейчас»; «История учит, что если выбрать такой-то путь, то могут встретиться такие-то неочевидные подводные камни, давайте будем к ним готовы». Пользы при таком подходе будет больше, а разочарований значительно меньше.