Нет больше войны!
9 мая в литературе
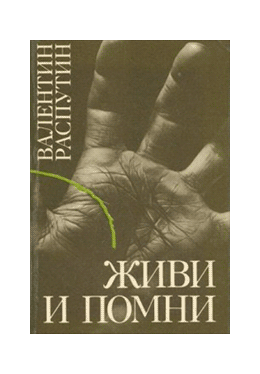 Валентин Распутин. Живи и помни (1974 год)
Валентин Распутин. Живи и помни (1974 год)
Кончилась война.
Из Карды прискакал нарочный и прокричал эти слова, обдав деревню долгожданным громом. И деревня взыграла.
Первым, как всегда, схватился за ружье Нестор, его поддержали — поднялась пальба, какой Атамановка сроду не слыхивала; бабы, бросаясь друг к другу, закричали, заголосили, вынося на люди и счастье, и горе, и вмиг отказавшее, надсадившееся терпение; забегали, засновали ребятишки, оглушенные новостью, которая в них не вмещалась, была больше всего, что довелось им до сих пор испытать, с которой они не знали, что делать, куда нести. Но и взрослые тоже растерялись, простых человеческих чувств, какими они привыкли обходиться, для этого случая не хватало. Поплакав, пообнимавшись, потрясшись в первый момент, люди, словно не выдерживая счастья, ошалело и бестолково тыкались из угла в угол, расходились и снова сходились, прислушивались к чему-то, ждали чего-то, какой-то команды. Подоспел Нестор, приказал вывешивать флаги. И хоть власти у Нестора больше не было, уж месяц, как он сдал свое председательское место Максиму Вологжину, но ему подчинились, полезли искать красное. Кто нашел, кто нет, но деревня, как могла, принарядилась, люди достали и оделись в лучшее, что хранили годами, ребятишки тут и там поднимали над воротами, над избами самодельные флаги.
И день, хмурившийся с утра, тоже распразднился: растаяли в небе облака, и накрепло, разгорелось солнышко, осияв все под собой веселым и торжественным светом.
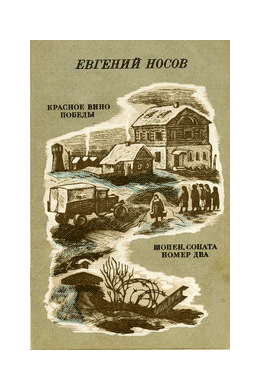 Евгений Носов. Красное вино победы (1971)
Евгений Носов. Красное вино победы (1971)
Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три часа ночи... Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время... Что-то враз обожгло меня изнутри, гулкими толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на виске.
Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.
— Все! Конец! Конец, ребята! — завопил он. — Это, братцы, конец! — и, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.
Никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино загудевшие этажи. Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее, Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня и он не властен.
Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.
Город тоже не спал.
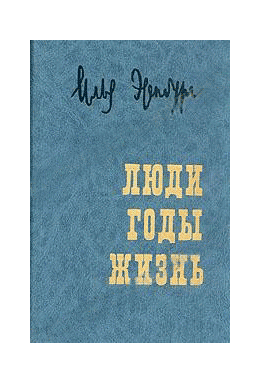 Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь (1960)
Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь (1960)
Все было несовместимо: развалины, танки, санбат и Ронсар, любовь, Елисейские поля — не парижские, другие, те, о которых писал Пушкин: «А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах...»
Две недели спустя, возвращаясь в Москву, в Вильнюсе я рассказывал Ю. И. Палецкису про швейцарского вице-консула. Мы смеялись, повторяли друг другу: «Теперь скоро конец!..» Я вдруг удивился: вот и победа, почему же к радости примешивается печаль?
В памяти встали пять лет, прошедшие после той весны, — потери, тоска, надежды. Кажется, подходит время, когда можно будет дышать, когда все любимые уснут без тревоги за тонкую нить человеческой жизни. Может быть, станет доступным и другое — радость, подснежники, искусство?.. Я больше не думал о Растенбурге или Эльбинге — думал о жизни.
 Андрей Платонов. Возвращение (1946)
Андрей Платонов. Возвращение (1946)
В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками — они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме.
Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку — стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь... Долго они жили здесь без него и скучали по нему. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома — тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же и прежде, четыре года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было свойства родного дома.
 Юрий Никулин. Почти серьезно (1979)
Юрий Никулин. Почти серьезно (1979)
В журнале боевых действий появилась запись: «Объявлено окончание военных действий. День Победы! Войска противника капитулировали. Вечером по случаю окончания военных действий произведен салют из четырех орудий — восемь залпов. Расход — 32 снаряда. 9 мая 1945 года».
Победа! Кончилась война, а мы живы! Это великое счастье — наша победа! Война позади, а мы живы! Живы!!!
Вскоре от отца пришло большое письмо со всеми подробностями. Отец писал, как они слушали правительственное сообщение о победе, как проходило гулянье на улицах, как обнимались незнакомые люди, как все целовали военных...
Всю ночь отец с матерью гуляли, хотели пройти на Красную площадь, но там собралось столько народу, что они не сумели протиснуться. С каким волнением я читал это письмо — так хотелось домой. Домой.
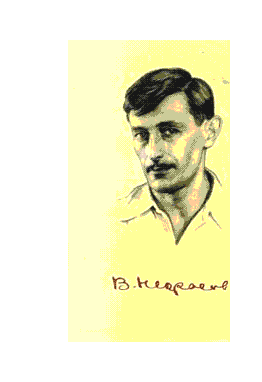 Виктор Некрасов. Тогда и сегодня (1985)
Виктор Некрасов. Тогда и сегодня (1985)
В этот день, в сорок пятом, мы все ликовали. Все! И те, кто воевал, и те, кто в Сибири вкалывал, ковал оружие, и те, кто под немцами мучился (моя мама в частности), и эвакуированные, и даже те, кто просто отсиживался в глубоком тылу. Все!
Нет больше бомб, снарядов, смертей, ранений (правда, в госпиталях многим было не так уж плохо, мне в частности), не будет больше сводок Информбюро, похоронок, маленьких, бумажных треугольников — писем с фронта (у меня один такой сохранился, величиной со спичечную коробку, вырвал листок из блокнота), не будет страха, волнений за отца, мужа, брата, сына — не будет войны! Кончилась она! Победа!
Над проклятым Рейхстагом красное знамя (с этими ребятами, которые его водружали, я потом познакомился — славные, малость хитроватые), в имперской канцелярии громадный стол Гитлера превращен в сортир, немцы, фашисты, враги посрамлены! Наши пленные скоро вернутся, немецкие посидят, посидят у нас и тоже вернутся к себе. Убей немца! — писал когда-то Эренбург. Потом был за это бит, как будто пo своему разумению так писал. И много их все же убили. Может, меньше, чем наших, но все же много. А сколько всего погибло? Сколько миллионов? Говорят двадцать, только наших. И не только говорят, пишут 6eз конца, вроде даже похваляются — видите, сколько человеческих жизней мы принесли в жертву, чтоб расправиться с ненавистным фашизмом. Вы там, англичане и американцы, с оглядочкой воевали, второй фронт не открывали, пока последнюю пуговицу на шинели последнего солдата не пришьете. А мы, не озирались, вперед, на Запад, за Родину, за Сталина — ура!!!
Так вот — нет больше войны! И мы по случаю победы крепко тогда надрались. И горланили, глотку надрывали, стреляли в воздух. Это у кого еще сохранились пистолеты. У меня его уже не было, поэтому просто пил и не закрывал рта. Тогда еще можно было утомлять слушателей рассказами об отступлении, атаках, бомбежках. «Разорвалась совсем рядом, осколок даже каску пробил, а я вот, видишь, живой!» Нет фронтовика, который не рассказывал бы такую или подобную ей историю.
Этот день — 9 мая 1945 года — запомнился надолго — день Победы, счастливейший день в жизни.

9 мая 1945 года на Красной площади
Фото: waralbum.ru