Ненависть к литературе: пыльный Маркес, нудный Борхес, скучный Сорокин
Топ-5 нелюбимых книг поэта Федора Бусова
Пробный выпуск нашей новой экспериментальной рубрики «Ненависть к литературе»: «Горький» обожает книги и ежедневно делится с вами этой любовью, однако мы не забываем о том, что читательские практики бывают очень разными. Иногда отторжения могут рассказать нам о чтении не меньше, чем притяжения, поэтому мы решили рискнуть и выступить в чисто негативном ключе — с надеждой, что рассказ о стойких книжных антипатиях наших авторов поможет нам и вам лучше понять, как формируется индивидуальный и неповторимый читательский опыт каждого из нас. Первым в этом макабрическом амплуа согласился выступить поэт Федор Бусов — «недоучившийся математик, мизантроп, аутист, временно завязавший алкоголик и любитель гулять по букинистам», как он сам себя характеризует.
По просьбе редакции сперва несколько слов о себе. Я так и не окончил факультет прикладной математики, зато пока ездил на учебу и сдавал седобородому человеку с внешностью английского моряка уравнения матфизики, прочитал (в оригинале, конечно) «Улисса» и «Путешествие на край ночи». То, что я сам писал в то время на русском языке, было довольно малоприятным. Это было долгое и мутное повествование про путешествие к планете Нептун двух странных людей, которые постепенно сходят с ума, и их диалоги начинают напоминать — нет, не Беккета — разговор двух алкашей у пивного ларька в два часа ночи (конечно, если представить таких фактурных философских алкашей, похожих на Мамонова). Помню, что я старательно списал из интернета какие-то координаты Цефеид, и перечисления цифр перемежались репликой «отхлебывает из фляжки». Мне это казалось интересным ходом.
Хорошо, что этот текст самоуничтожился вместе с залитым пивом ноутбуком. Сейчас мне было бы стыдно такое читать — плохой винегрет из Сорокина, Хармса и что еще там принято цитировать в моей социальной среде. Меня вдохновляют тексты, представляющие собой брутальный и безысходный... господи, какая пошлость, в духе школьных сочинений. В общем, теперь следует рассказать о тех книгах, которые преисполняют меня ненавистью.
1. Габриэль Гарсиа Маркес, «Сто лет одиночества»
Все эпическое в литературе пахнет пылью, потом и казенным учреждением. Маркеса я читал в девятом классе на физкультуре на скамейке освобожденных, пока одноклассники-акселераты прыгали с мячом. Как типичный изгой из американского кино. Я сидел за дермантиновым козлом и проглатывал длинное и запутанное повествование, полное претензий на экзистенциализм, на рыцарский роман, на сюрреализм и вообще на все высокое и прекрасное, как готический собор или, скажем, вонючий сыр с плесенью. Но все эти полковники и пампасы пахнут далеко не милыми моему сердцу тухлыми носками Франции. Они пахнут казенщиной и Литературой с большой буквы. В Литературе с большой буквы постоянно встречаются какие-то списки поколений, героев, генеалогические схемы как в «Илиаде». Но Гомер знал, что описывать надо один эпизод или одного героя. В эпических романах толстая книга притворяется компендиумом истории. Эпические романы — субститут какого-нибудь Диодора Сицилийского, но это что-то вроде карри в Индии и в Англии. Древняя литература была чрезмерной. Новая литература была избыточной.
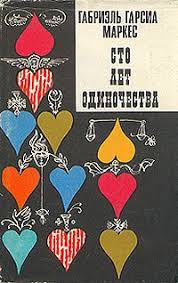 Все это латиноамериканское избыточно в специфическом, неприятном смысле, как, скажем, прыгающие грудастые школьницы перед президентом или министром образования. Неудивительно, что герой в конце вроде как сваливает из Колумбии в прекрасный Париж (звучит попсовая песня Эдит Пиаф). Википедия пересказывает и трогательную историю написания: как жена Маркеса спонсировала его бумагой и сигаретами, как они задолжали мяснику — привет феминисткам, привет великим мертвым белым мужчинам с неслышной нянюшкой за спиной. Нобелевку Маркесу, естественно, тоже дали.
Все это латиноамериканское избыточно в специфическом, неприятном смысле, как, скажем, прыгающие грудастые школьницы перед президентом или министром образования. Неудивительно, что герой в конце вроде как сваливает из Колумбии в прекрасный Париж (звучит попсовая песня Эдит Пиаф). Википедия пересказывает и трогательную историю написания: как жена Маркеса спонсировала его бумагой и сигаретами, как они задолжали мяснику — привет феминисткам, привет великим мертвым белым мужчинам с неслышной нянюшкой за спиной. Нобелевку Маркесу, естественно, тоже дали.
В общем, лучше бы я за тем дерматиновым козлом читал дерматинового же Маркса. Маркс избыточен в другом смысле: он физически не может остановиться, когда ему приходит в голову цитировать «Нибелунгов», Тацита или какую-нибудь хронику — или статью из Times.
2. Джон Рональд Руэл Толкин, «Властелин колец»
Тоже великая литература, только, в отличие от Маркеса, ее можно адекватно воспринимать через перевод Гоблина. Английский текст теперь уже намертво ассоциируется у меня с дачей в Ленобласти, русской печью и запахом какао. Я очень люблю смотреть, как туман утром лежит на зарослях иван-чая. Это было сентиментальное отступление. Так вот, интересно, что этот опус профессионального филолога, который старательно, педантично и нудно конструировал стерильное псевдосредневековье, преломился через Гоблина и стал, таки да, русским фольклором, вотчиной пьяных тупых застольных шуток. Хоббиты, кстати, пьют стаут крепостью 1 %, его, естественно, можно купить, только им, скорее всего, невозможно напиться. То ли дело портвейн, за которым как раз шуточки про «трава — это дерево» идут на ура. Довольно интересна одержимость англичан идеей построения секулярного богословия, пресно-инкультурированной Библии или пресно-инкультурированого Фомы Кемпийского, скажем. Средневековые люди с их оспой и суконными кальсонами общались с Богом, как если бы у них чесалась задница. Твидовые англичане с их чаем с печеньем перелистывают все эти генеалогические таблицы (красиво прорисованные, в отличие от Маркеса, пером с готическими завитушками) с приличной дистанцией.
![]() Кажется, я вспомнил, что, когда читал Толкина, валялся на грубом шерстяном одеяле, пахло дегтем — в общем, как у Чехова, только клопов не доставало. Клопов-хоббитов. Все эти эпические долгие планы в экранизации, цифровые монстры, роскошь и богатство, искусство с бюджетом небольшой страны — а что, ведь профессор на коленке выдумал целый мир. Профессор был католик — наверное, мнил себя кем-то вроде Исидора Севильского, а оказался кем-то вроде католического прелата-шпиона из советских агиток. Карта в кармане, чаек на столе. Еще у меня лицо Элайджи Вуда вызывает желание пнуть его ботинком. Как хорошо, что у меня нет массивных ботинок Dr. Martens. Как хорошо, что я настолько ленив, что так и не осилил весь английский текст трилогии.
Кажется, я вспомнил, что, когда читал Толкина, валялся на грубом шерстяном одеяле, пахло дегтем — в общем, как у Чехова, только клопов не доставало. Клопов-хоббитов. Все эти эпические долгие планы в экранизации, цифровые монстры, роскошь и богатство, искусство с бюджетом небольшой страны — а что, ведь профессор на коленке выдумал целый мир. Профессор был католик — наверное, мнил себя кем-то вроде Исидора Севильского, а оказался кем-то вроде католического прелата-шпиона из советских агиток. Карта в кармане, чаек на столе. Еще у меня лицо Элайджи Вуда вызывает желание пнуть его ботинком. Как хорошо, что у меня нет массивных ботинок Dr. Martens. Как хорошо, что я настолько ленив, что так и не осилил весь английский текст трилогии.
3. Владимир Сорокин, «Голубое сало»
Это произведение, в котором подсознание московского гуманитарного интеллигента отчаянно хочет притвориться нам интересным. На самом деле оно состоит из гомосексуализма, одержимости «творчеством», гомосексуализма, баек про писателей и других творческих людей, гомосексуализма и... наверное, еще раз гомосексуализма. Лично мне кажется идиотским прием с описанием мироздания через некую волшебную субстанцию. Если, конечно, эта волшебная субстанция не вискарь, например. А, еще отдельно интересны нежные чувства автора к Иосифу Виссарионовичу. Здесь нужно бы развести немного кухонного фрейдизма, что-то вроде того, что Сталин — это «хороший я» для нашего гуманитария. «Хороший мальчик», который читает Ахматову с Мандельштамом, кушает компотик и заливисто смеется. Я это произведение тоже проглотил, скучая в деревне, но почему-то все эти червячки и мальчики оказались... ну как если бы это было описание расставания немолодых и надоевших друг другу любовников в плохом романе. «Он грустно посмотрел на часы». Честно говоря, я прочитал столько плохой порнографии, что уже не представляю, как остроумно и неомерзительно описывать хоть секс Сталина с Хрущевым, хоть секс Тома Круза с Анджелиной Джоли. У Лимонова, говорят, получалось когда-то при Симеоне Гордом... или Иване Калите...
 Недавно я смотрел фильм-интервью с Сорокиным. Сидел на холодной траве, было довольно неприятно. В конце вальяжный Сорокин вальяжно рассуждает о звездах, Боге, миссии русской литературы и всяком таком. Очевидно, что он всю жизнь просто завидовал питерским некрореалистам, Юфиту, например. Кто в детстве не любил читать в качестве порнографии какие-нибудь медицинские учебники с изображениями снесенных черепов, вывороченных челюстей?
Недавно я смотрел фильм-интервью с Сорокиным. Сидел на холодной траве, было довольно неприятно. В конце вальяжный Сорокин вальяжно рассуждает о звездах, Боге, миссии русской литературы и всяком таком. Очевидно, что он всю жизнь просто завидовал питерским некрореалистам, Юфиту, например. Кто в детстве не любил читать в качестве порнографии какие-нибудь медицинские учебники с изображениями снесенных черепов, вывороченных челюстей?
4. Хорхе Луис Борхес, «Сад расходящихся тропок»
Интеллектуальная литература, некий партминимум всего приличного и нестыдного. Сам Борхес вроде как был и против фашизма, и против коммунизма, либералом, сторонником свободомыслия и благоразумия. Суть этого рассказа вроде в организованной бесконечности китайского романа, или там энциклопедии несуществующего мира, или там памяти героя с синдромом саванта. Сейчас я его просмотрел. Там еще упоминается первая мировая война и «Анналы» Тацита. Все это очень европейские вещи. В нашей стране — слава Богу — все бесконечное дико, как собака или заброшенный полустанок.
Лично я не считаю, что литература нужна для аллегорий или (прости господи) интеллектуальных провокаций. Литература нужна для того, чтобы ткнуть человека носом в дерьмо. Кажется, я уже говорил об этом. Именно потому что лет в пятнадцать я всем таким восторгался, сейчас я особенно ненавижу эту умудренную и пыльную литературу ради литературы, которая напоминает разговор в купе поезда, едущего, скажем, сутки, об экзистенции или сущности времени. Для такого же поезда, конечно, нужны карманные издания Борхеса или Гессе, бутерброды в полиэтилене, возможно, термос. На самом деле эти разговоры о философии просто прикрывают кошмарность той реальности, которая плещется внутри черепа. Сейчас (лично мне) подобного не хватает, так как в восемнадцать лет я постоянно сталкивался со странными питерскими персонажами, а теперь не сталкиваюсь. Наверное, все они обратились в православие, стали агендерами, устроились в офис или стали актуальными художниками. Может быть, ничего из этого. Еще Борхес дожил до 86 лет, и странно, что он не получил Нобелевку.
5. Аббат Прево, «Манон Леско»
Почему-то это произведение было предустановлено на самом первом планшете, который я купил, когда переехал в Москву, а потом расколошматил в пьяном виде. Я мало что помню про содержание этого опуса. Кажется, в конце герои оказываются в Америке и девушка умирает от голода в прериях или пампасах. С этим произведением проблема не в том, что аббату просто очень не терпелось наказать распутницу, которая пошла по неверной дорожке и умерла трагической смертью и молодой. Проблема, как мне кажется, скорее в том, что в XVIII веке во Франции надо было быть очень неостроумным человеком, чтобы пытаться морализаторствовать. Де Сад тоже страдал морализаторством наоборот.
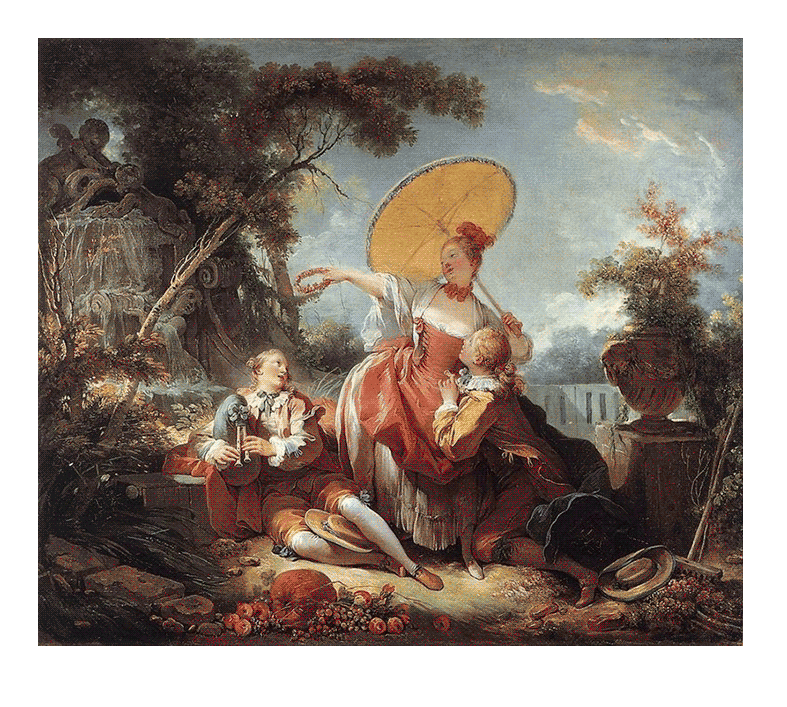 Мне почему-то Франция XVIII века представляется страной Рамо, борделей и Картуша, раем веселых циников, без зубов, волос и, вероятно, с запущенной формой сифилиса, а тут — надо же — какие-то порочные откупщики и какой-то побег в Америку, словно это Чернышевский писал. Вероятно, впрочем, мне просто непонятно, зачем нужны любовь или отношения в так называемой художественной литературе. Можно же страницами гнать описания гнилых зубов или там раздувшихся утопленников. Но нет — надо писать про дуалистическую природу женственности и прочее. Это понятно, что в те времена женщина считалась кентавром, а откупщик — это отвратительный краснорожий старик, но, как, по всей видимости, правильно пишет википедия, из этой мировой классики выходит душноватая атмосфера «реалистического романа», наполненного дамами полусвета в каких-нибудь «щегольских салопах», обязательно с «искренним сердцем», «страстными порывами» и всем таким. Думаю, что именно от этого всего я полюбил пить, читать форум судмедэкспертов, попал в ментовку и, как я уже сказал, расколотил там планшет с библиотекой.
Мне почему-то Франция XVIII века представляется страной Рамо, борделей и Картуша, раем веселых циников, без зубов, волос и, вероятно, с запущенной формой сифилиса, а тут — надо же — какие-то порочные откупщики и какой-то побег в Америку, словно это Чернышевский писал. Вероятно, впрочем, мне просто непонятно, зачем нужны любовь или отношения в так называемой художественной литературе. Можно же страницами гнать описания гнилых зубов или там раздувшихся утопленников. Но нет — надо писать про дуалистическую природу женственности и прочее. Это понятно, что в те времена женщина считалась кентавром, а откупщик — это отвратительный краснорожий старик, но, как, по всей видимости, правильно пишет википедия, из этой мировой классики выходит душноватая атмосфера «реалистического романа», наполненного дамами полусвета в каких-нибудь «щегольских салопах», обязательно с «искренним сердцем», «страстными порывами» и всем таким. Думаю, что именно от этого всего я полюбил пить, читать форум судмедэкспертов, попал в ментовку и, как я уже сказал, расколотил там планшет с библиотекой.