Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Сергей Сергеев. Русское самовластие. Власть и ее границы: 1462–1917 гг. М.: Яуза-каталог, 2023. Содержание. Фрагмент
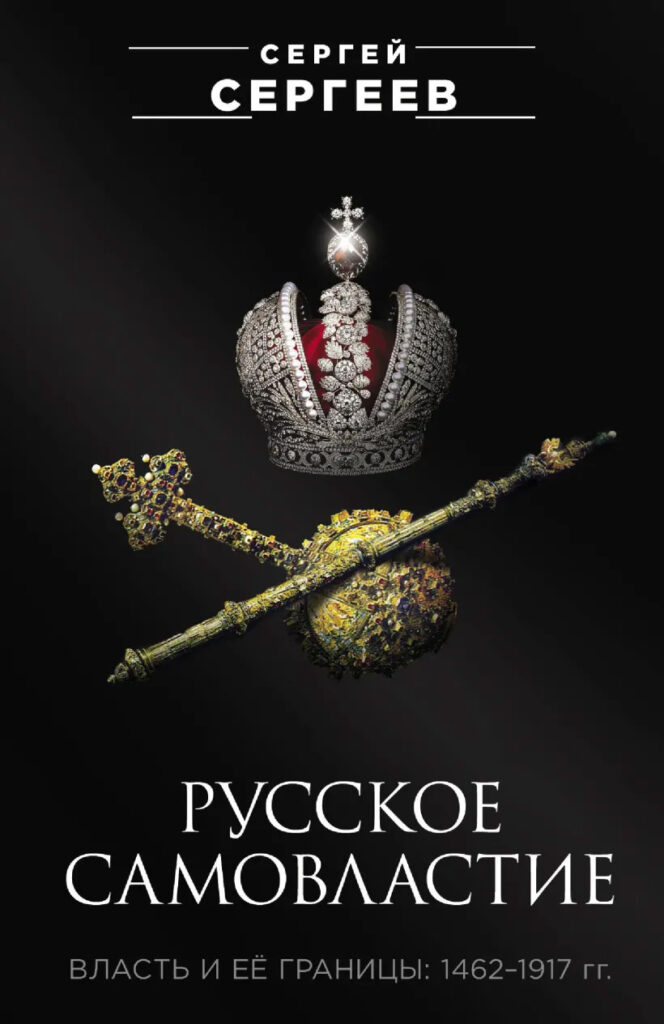 — Один коллега после беглого знакомства с вашей новой книжкой высказал мнение, что автор «врубил Валерию Ильиничну». Не могу с ним согласиться, однако общая картина у вас действительно получилась довольно беспросветная, и отсюда вопрос: как вы относитесь к Новодворской и в чем отличие вашей позиции от ее?
— Один коллега после беглого знакомства с вашей новой книжкой высказал мнение, что автор «врубил Валерию Ильиничну». Не могу с ним согласиться, однако общая картина у вас действительно получилась довольно беспросветная, и отсюда вопрос: как вы относитесь к Новодворской и в чем отличие вашей позиции от ее?
— Еще несколько лет назад сравнение с Новодворской я бы воспринял как оскорбление. Не забывайте, в недалеком прошлом я был главным редактором почвеннического журнала «Москва» и научным редактором журнала с говорящим названием «Вопросы национализма». Не могу и сейчас сказать, что для меня такое сравнение лестно, однако надо признать, что в своей оценке русской политической культуры как деспотической я действительно не противоречу Новодворской. Но, с другой стороны, мне эта параллель не кажется плодотворной для понимания моей книги. Указанная выше оценка русской политической культуры вовсе не открытие Новодворской и не ее монополия — эта точка зрения высказывалась различными авторами с XVI столетия. И здесь очень важно, как она выражается. При всей моей нескрываемой идеологической ангажированности, я все-таки прежде всего историк, и, надеюсь, мое «Самовластие» нигде не превращается в боевую публицистику. Уж если сравнивать меня с классическими «русофобами», то тогда уж с Ричардом Пайпсом! Но и Пайпс не изобретал велосипеда, он был последователем Петра Струве, которого трудно заподозрить в «русофобии», а до Струве нечто похожее мы можем найти у Бориса Чичерина, Василия Ключевского, Александра Преснякова и других классиков русской историографии. Новодворская же занималась именно боевой публицистикой, причем использовала чрезвычайно хлесткие, утрированные формулировки, которые не столько помогали уяснить суть дела, сколько нещадно били русского человека по больным местам, что имело скорее отрицательный эффект. Думаю, в том, что слово «демократия» стало у нас ругательством, есть доля вины Валерии Ильиничны.
— Раз уж зашла речь о Пайпсе, не могу не поинтересоваться также и насчет вашего отношения к нему. Вы в одном месте довольно остроумно цитируете его «Русскую революцию», но в целом со стороны не кажется, что у вас много общего. Например, другая книга Пайпса, «Русский консерватизм и его критики», тематически близкая вашей работе, начинается с того, что в России все не как у людей из-за некогда распространенного в наших краях подсечно-огневого земледелия: с тех самых пор у нас такая беда с частной собственностью, а следовательно, и со всем остальным. По-моему, это не очень похоже на вашу систему аргументации.
— Имя Пайпса роковым образом преследовало меня во всех конфликтах с моим былым «национал-патриотическим» окружением. Покойный Леонид Бородин, известный писатель и гендиректор журнала «Москва», сказал мне как-то, что я не люблю русскую историю, а на мое возражение, что вообще-то я ею занимаюсь со студенческих лет, язвительно ответил: ну и что, Пайпс вон всю жизнь занимается! Мой отнюдь не восторженный, а просто объективистский некролог Пайпсу, опубликованный в фейсбуке, поставил точку в наших деловых и дружеских отношениях с покойным Константином Крыловым. В глазах «национал-патриотов» Пайпс давно превратился в зловещий миф, концентрирующий в себе всю враждебность Запада по отношению к России (а тут еще и еврейское происхождение!). Между тем никакой «русофобии» я в его работах не замечал, и выводы многих классиков русской исторической науки, как уже говорилось выше, с его концепцией в целом совпадают. Он выдающийся историк, его биография Струве — шедевр, его работы общего плана можно за что-то критиковать и находить в них ошибки, однако это очень серьезные труды. Но, как вы, наверное, заметили, ссылок на Пайпса в «Самовластии» крайне мало — всего две, и обе «русофильские»: о высокой рождаемости в Российской империи в начале ХХ века и о том, что думская монархия была гигантским шагом в процессе демократизации России. Я сделал это специально, избежав тем самым красной тряпки, на которую сразу накинулись бы все мои критики (по той же причине среди источников я практически не обращался к де Кюстину) и заболтали бы вопрос в привычном для них жанре борьбы с западной «русофобией». Чтобы показать деспотическую сущность русской власти, Ричард Пайпс не нужен, достаточно Сергея Соловьева. Впрочем, некоторые ретивые патриоты даже Соловьева величают «русофобом»! Что же до сходства и разницы аргументации Пайпса и моей, то лучше смотреть не «Русский консерватизм», а «Россию при старом режиме»: там многое перекликается с «Самовластием», но вы правы — Пайпс, в отличие от меня, не делает акцента на религиозно-правовой культуре. Да и вообще тема русской власти для него — лишь один из сюжетов многопланового повествования, для меня же она основная, поэтому круг используемых мной источников и исследований заметно отличается от его круга.
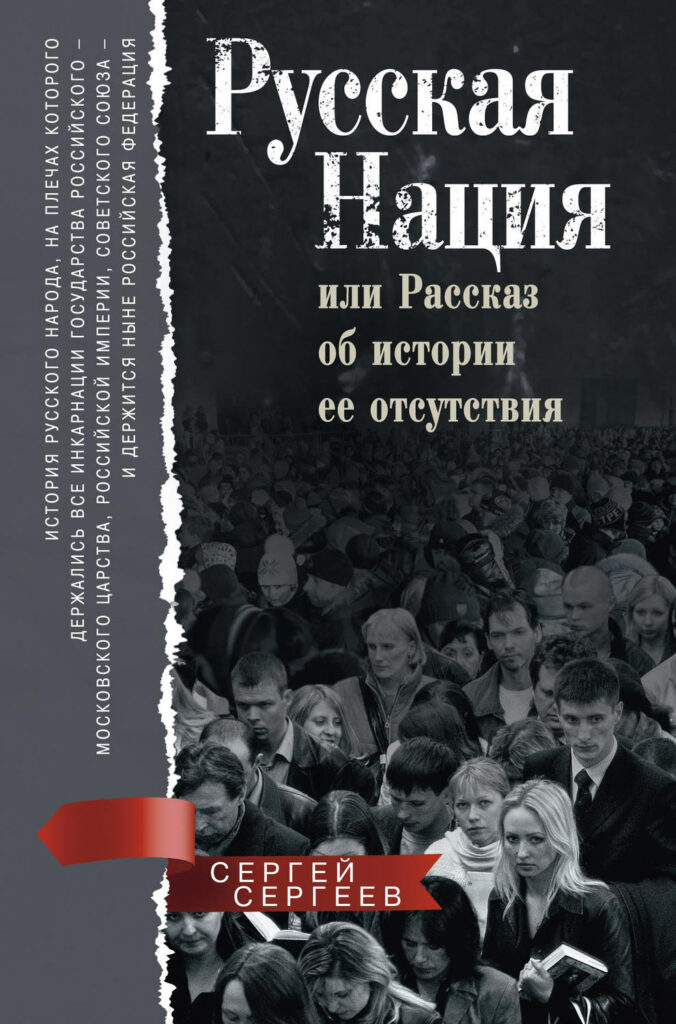 — В предисловии вы говорите, что «Самовластие» является своего рода продолжением вашей предыдущей работы, получившей название «Русская нация, или История ее отсутствия». Не могли бы вы вкратце рассказать, в чем суть этого сюжета и как он связан с вашей новой книгой?
— В предисловии вы говорите, что «Самовластие» является своего рода продолжением вашей предыдущей работы, получившей название «Русская нация, или История ее отсутствия». Не могли бы вы вкратце рассказать, в чем суть этого сюжета и как он связан с вашей новой книгой?
— Центральная идея «Русской нации» состояла в том, что русской нации как политического субъекта на всем протяжении нашей истории практически не было. И главная причина этого — политика российской власти, которая в силу своего неограниченного характера стремилась не допустить появления чего-либо, что ей неподконтрольно. Последний тезис сразу же по выходу книги вызвал страшное раздражение у большинства моих тогдашних соратников по русскому национализму, среди которых процветала (и продолжает процветать сегодня) апология Российской империи и самодержавия. Особенно негодовал покойный Егор Просвирнин, который даже снял в одном видеоролике, как он запекает «Русскую нацию» в гриле. Была бурная полемика на различных сайтах, в соцсетях, мне доказывали, что все у нас было прекрасно, не хуже, чем в Европе, что боярская дума — это палата лордов, а земские соборы — это парламент, что Табель о рангах ограничивала самодержавие лучше любых парламентов и т. д. и т. п. Я методично отвечал на эту критику, и все же не мог переубедить своих оппонентов, их вера преодолевала любые фактические нестыковки. Но в ходе этой полемики я стал копать тему русской власти все глубже и глубже и в какой-то момент понял, что собранный мной материал может стать основой новой книги. Да и современность постоянно демонстрировала чрезвычайную актуальность темы.
— В предисловии вы выводите истоки русского самовластия, то есть монархического правления, которое за многие века так и не было по-настоящему ничем ограничено, из исторических особенностей административного и юридического развития страны. Почему, на ваш взгляд, влияние этих факторов оказалось столь существенным и устойчивым и как ваш подход соотносится с подходами тех, кто в исследованиях на схожие темы уделяет первостепенное внимание экономике?
— Разные историки акцентируют разные решающие факторы в развитии русской политической культуры в силу своих методологических предпочтений. Возможно (и скорее всего), я просто плохо разбираюсь в экономике, но мне экономический фактор в истории первичным не кажется (хотя он, разумеется, весьма значим). Особенно в русской истории, где приоритет политики над экономикой неоднократно и впечатляюще демонстрировался, и демонстрируется прямо сейчас, можно сказать, в режиме реального времени. Власть — вот ключевое понятие русского бытия, она дает деньги, а не наоборот. Как так вышло? Дело не только в «особенностях административного и юридического развития страны»: они вторичны по отношению к русской религиозно-правовой культуре, которая в силу своей примитивности по сути сводится к праву сильного. При всех потрясениях, случавшихся с западным миром, там никогда не исчезало представление о наличии у подданных (а позднее и граждан) неотъемлемых прав, у нас же эта идея не имела автохтонных истоков и пришла к нам поздно, в результате западного влияния, но так в полной мере и не укоренилась. Правитель в России может позволить себе все — кроме слабости.
— На протяжении всего исследования вы сопоставляете российский опыт с западноевропейским контекстом, и результаты сравнения неизменно указывают на глубинные различия между тем и другим. Однако, по моим ощущениям, в последнее время многие историки склонны видеть в этом скорее исторически обусловленные особенности развития нормального европейского государства, чем непреодолимую пропасть. Каковы, на ваш взгляд, критерии, по которым можно судить о корректности того или иного сопоставительного исторического анализа?
— Да, указанная тенденция в исторической науке хорошо заметна — и в отечественной, и в зарубежной. На мой взгляд, она диктуется в первом случае патриотизмом, а во втором — толерантностью. Хороший свежий пример последней — недавно изданная у нас книга «Россия и ее империя. 1450–1801» Нэнси Шилдс Коллман. В этой замечательной работе совершенно справедливо говорится о том, что формальных ограничителей власти у русских самодержцев не было, что русская знать не имела политических прав, что городское самоуправление в России отсутствовало, что земские соборы не имели полномочий европейских сословно-представительных учреждений и т. д. Но при этом автор делает вывод, что русскую монархию ни в коем случае нельзя называть «деспотией», поскольку она ограничивалась неким «имперским воображаемым» и в общем находилась в пределах нормы. Я не держусь за слово «деспотия» или «тирания», но все же очевидно (и я это в «Самовластии» подробно показываю), что аналогов русского самодержавия в Европе не было. Хорошо, давайте назовем это каким-нибудь другим словом, но не будем делать вид, что не замечаем принципиальных различий, которые в прошлом прекрасно видели и иностранцы, и русские, которые и сегодня прекрасно видны. Такую «нормализацию» я считаю отказом от основ классической европейской культуры, в которой тирания, начиная с Аристотеля, считалась наихудшей формой правления. Тогда в перспективе угадываются «воры — альтернативные покупатели» и «насильники — альтернативные любовники». Другое дело — поместить Россию в «восточный» контекст, там она будет смотреться иначе. Однако я ограничился европейским контекстом: обращение к «восточному» материалу требует все же специальной подготовки. Не сомневаюсь, что сегодня желающих научно обосновать все преимущества «восточного» понимания власти предостаточно, и соответствующие труды уже пишутся, если еще не отправлены в печать.
 Сергей Сергеев
Сергей Сергеев
— В истории русского самовластия не раз случалось так, что вероятность его ограничения и переформатирования была вполне высока. Какие из этих моментов были наиболее яркими и почему в результате ничего особо не вышло?
— Это и договор 1610 года об условиях воцарения королевича Владислава, по которому государь мог вершить суд над обвиненными в измене и устанавливать налоги только «с приговору и с совету бояр и всех думных людей». Это и «кондиции» Верховного тайного совета (1730), сначала подписанные, а потом разорванные Анной Иоанновной, которые декларировали, что без согласия ВТС она не имеет права «ни с кем войны не всчинать», «миру не заключать», «подданных никакими новыми податми не отягощать». Наконец, это думская монархия Николая II (1906–1917), в которой действовало разделение законодательной власти между монархом и народным представительством. Каждый раз причины срыва были различными: тупость польского короля Сигизмунда III, неспособность лидеров ВТС договориться с другими фракциями русского дворянства, породившая революцию Первая мировая война. Но за всеми этими историческими случайностями маячит фундаментальная первопричина, о которой я уже говорил выше — слабость или, если угодно, своеобразие русской правовой культуры.
— Интересно, что эта проблема именно как правовая в нашей культуре, кажется, никогда по-настоящему не ставилась, а корень общественных зол искали где угодно — в социально-политической сфере, в экономике, в морали, — но только не в праве. При этом много лет доминировавшее в Российской империи классическое образование предполагало как минимум знакомство элиты с римской правовой традицией и понимание ее высокого статуса, однако на публичном дискурсе это по каким-то причинам существенно не сказывалось?
— Нет, проблема эта ставилась. В пору моей юности, в годы перестройки, только ленивый не писал о дефиците отечественного правосознания как одной из главных причин наших бед. Забавно, что я в ту пору был страстным славянофилом и гордо отвергал иудейско-западническое законничество, противопоставляя ему православно-русскую Благодать. Писали об этом и в XIX столетии (тот же Борис Чичерин), и в начале прошлого века (Богдан Кистяковский в сборнике «Вехи»). Что же касается официального дискурса, то в Российской империи сама идея законности формально не подвергалась сомнению. Другое дело, что на практике само понятие «закон» было проблематичным: по сути законом могло стать любое административное распоряжение верховной власти, а некоторые важнейшие учреждения империи вообще не имели юридического обоснования — например, пресловутые военные поселения. Вот вы говорите о знакомстве русской элиты с римской правовой традицией, а я в книге как раз привожу несколько потрясающих примеров на сей счет, взятых из жизни России, которая уже пережила реформы Александра II, т. е. максимально приблизилась к Европе. Чего стоит хотя бы скандальное дело Дервизов при Александре III, когда выпускник Училища правоведения, член Государственного совета Дмитрий Дервиз попытался с помощью своих однокашников, министра юстиции Николая Манасеина и обер-прокурора Синода Константина Победоносцева, взять в опеку имущество своего совершеннолетнего и вполне дееспособного племянника. На этом решении была даже поставлена высочайшая подпись, которую пришлось отменять после того, как вскрылась его абсолютная незаконность. И ничего — все трое правоведов (а Победоносцев ведь был автором курса лекций по гражданскому праву!) остались на своих местах. Как убедительно показал в своих блестящих работах Виктор Живов, и в Древней Руси, и в Московском государстве писаное право не имело практического применения, но выполняло сугубо культурно-идеологическую функцию. И такое положение вещей во многом сохранялось и в Российской империи, и в СССР, а то, что в РФ «понятия» важнее законов, мы все знаем не по книгам.
— В конце нашего разговора хочу вернуться к тому, с чего начал — к вашей позиции и целеполаганию. Вполне очевидно, что предложенный вами критический анализ русского самодержавия и фантазии о России, которую мы потеряли, относятся к разным весовым категориям, однако рациональные аргументы и факты — менее действенное оружие в борьбе за умы, чем лозунги и мечты об имперском величии. Учитываете ли вы это в своей работе и можете ли описать в двух словах свою текущую исследовательскую стратегию? Кого вы считаете сегодня своими единомышленниками и до кого бы вам хотелось в первую очередь достучаться? И какую позитивную программу можно предложить тем, кто готов с вашей позицией солидаризироваться, — развитие правовой культуры, демократия, парламентаризм?
— Развитие правовой культуры, демократия, парламентаризм — да, разумеется. Но этого недостаточно, ибо наш правовой нигилизм — лишь верхушка айсберга, под которой скрывается куда более страшная вещь: нигилизм этический. Без его преодоления никакая демократия нас не исправит — все вернется на круги своя, как это произошло у нас на глазах в 1990–2010-е. Культом произвола, к сожалению, заражено само общество — какую другую власть оно может породить? И как лечить эту болезнь в отсутствие хоть каких-то здоровых институтов, совершенно непонятно. Однако это тема для большой общественной дискуссии. Моя задача как автора обсуждаемой книги гораздо скромнее: показать, что популярная ныне идея возврата к «историческим корням», идея «особого пути» ведет нас в тупик, к тому, что у нас и так уже есть. «Либерально» настроенным людям это, наверное, объяснять не нужно, а вот для искренних «патриотов», видящих в нашей истории лишь череду великих побед, чтение «Самовластия» может оказаться полезным, даже если оно просто пробудит в них рефлексию и желание узнать о прошлом России побольше.
