«Не могу читать великого русского писателя Юрия Мамлеева»
Читательская биография режиссера Всеволода Лисовского
«Запах подгнившего Конан Дойля казался мне абсолютно прекрасным»
Мое стабильное чтение началось лет с шести. Первое яркое впечатление не столько читательское, сколько зрительское. Была такая красная книжка «Три мушкетера» с иллюстрациями Ивана Кустова, я эти иллюстрации бесконечно рассматривал и не мог представить себе ничего прекрасней. Потом через много лет у одних знакомых я встретил этого художника, который был хоть и нестарый, но уже очень нездоровый человек. Он сидел и абстрактно улыбался. Вскоре он умер. Но я слабо соотносил этого отрешенного от всего чувака и его великолепные картинки.
Важным было не только визуальное впечатление, но и обонятельное. Лет в девять у меня начался период Конан Дойля, своего Дойля не было дома, поэтому мама брала книги в библиотеке. Они обладали довольно странным запахом — наверное, для большинства он будет неприятен, такой гнилостный. Запах подгнившего Конан Дойля казался мне абсолютно прекрасным.
Мама на каком-то этапе руководила моим чтением, потом мне это надоело. Дома был достаточно стандартный набор: Библиотека всемирной литературы, подписные издания, все как у всех. Лучшее состояние мое в детстве — ты приходишь домой где-то в час дня, и до шести, пока родители не вернутся домой, весь мир в твоем распоряжении. До сих пор, когда я один в квартире, с ужасом слушаю звуки лестничной площадки, будто кто-то сейчас нарушит мое уединение. И вот я стал скрывать, что читаю. Причем там не было никакого криминала, да и мне особо ничего не запрещали. Я читал, лежа на полу; если кто-то неожиданно входил, я заталкивал книгу под шкаф. Однажды меня поймали — выяснилось, что я читаю что-то крайне невинное, вроде «Саги о Форсайтах», мне было лет десять. Я думал, что никогда не вернусь к этой книге, но где-то с месяц назад я ночевал в одном доме, где, в общем, было нечем особо заняться, к тому же у меня сел телефон. И там лежала эта книга. Я начал ее читать и, пока не прочитал половину, так и не заснул.
Леон Фейхтвангер — один из любимых авторов детства, особенно его «Иудейская война». Собственно говоря, чтение этого текста было единственным случаем столкновения с собственной еврейской идентичностью. Больше к этому вопросу я не возвращался. Семидесятые годы, Советский Союз: непонятно, что делать с этой идентичностью, и есть ли она вообще, а потом выясняется, что в принципе пофиг.
«Ситуация семидесятых и нынешняя очень похожи»
Семидесятнический контекст — это отдельная история. В те годы я посещал клуб ЭТО [клуб старшеклассников «Эстетика, творчество, общение», единственное в семидесятые годы неформальное педагогическое объединение в СССР, ставившее во главу угла искусство, — прим. ред.]. У меня есть любимая шутка: в семидесятые я ненавидел те же три вещи, что и в десятые: Марину Цветаеву, йогу и «Чайку по имени Джонатан Ливингстон». В принципе, клуб ЭТО был именно про это: тогдашний журнал «Новый мир», «Альтист Данилов». Знаете рюмочную на Никитской? Так вот, выпиваем мы там как-то, видим — в углу дядька сидит. Сначала я решил, что это хозяин заведения, но потом понял, что это какой-то почетный посетитель. Я начал вслушиваться, проговорится ли, чем он славен. «Ну, вот у меня в „Альтисте Данилове”…» Понятно, подумал я. Ситуация семидесятых и нынешняя очень похожи. Сейчас нет эзопова языка, а так — то же ощущение застоя, статичности. Происходят такие легкие бурления, если долго всматриваться в кастрюлю с кипящим супом, конечно, некий драматизм там можно обнаружить, но не более того.
«Друг моей юности — Аполлинер»
Что касается Марины Цветаевой, я не то чтобы считаю ее стихи плохими. Меня это бесит в современной молодежи — этакая углубленность в себя, упоенное вчитывание в собственные ощущения. Я смотрю и вижу, что румяные, здоровые девки, каждая вторая, уверены, что у них биполярное расстройство. Это вообще ведь визуально определяется — самоупоение своим страданием, которое есть и в стихах Цветаевой.
У меня не очень изощренный поэтический вкус, я люблю то, что для себя определяю как мужские стихи: Киплинга, Брехта, Маяковского, четкий ритм, мужская подача, я чувствую гендерную солидарность с ними. А вообще друг моей юности — Аполлинер. Я недолго жил в Приэльбрусье и ходил на охоту. Взяв у бабушки томик Аполлинера, я брал с собой бутылку портвейна, банку бараньей тушенки, время от времени присаживался на камень, делал глоток портвейна, ел, читал книжку и шел дальше, под вечер стрелял в воздух и возвращался домой.
«Вся жизнь — преодоление изначального логоцентризма»
Уже в детстве я ощущал дефицит времени, поэтому научился читать с какой-то зверской скоростью, причем не использовал никаких специальных методик. Сейчас я тоже быстро читаю, но не так быстро, как тогда. Скорость чтения была нужна, потому что времени мало, а в дальнейшей жизни его становилось только меньше, и я как-то интуитивно чувствовал, что дальше будет не до книг.
Конечно, все ролевые модели я получал из книг. Для меня самый важный жанр — это роман воспитания. Его главный герой — такой персонаж, который постоянно трансформируется. Мне нравится роман воспитания без хеппи-энда, как, например, у Вольтера. Если говорить о русской литературе, то это «Клим Самгин»: я хотел быть на него похожим. Если снова попаду ночью в какое-нибудь пространство, где нечего делать, и там будет «Жизнь Клима Самгина» — обязательно перечитаю. Еще у меня был смешной сюжет с «Пер Гюнтом»: я прочитал его лет в четырнадцать, почему-то подумал, что этот сюжет имеет отношение ко мне, и решил, что не буду перечитывать до пятидесяти лет. Вот пятьдесят лет исполнилось, а я как-то не тороплюсь.

Всеволод Лисовский
Фото: in-art.ru
Вся жизнь — преодоление изначального логоцентризма, автономизация от текста, книжных моделей. Любой текст опасен тем, что он задает тебе модель. Писатели вообще достаточно тоталитарны. Их задача тебя матрицизировать, это первая причина, почему я отказался в театральной работе от пьес. Потому что любая инсценировка или экранизация по отношению к тексту является профанацией. Фильм или спектакль могут быть гениальны, но это ничего не меняет. И чем крупней фигура — какие-нибудь авангардисты, Брехт или Стоппард, — тем она тоталитарней. Это очень удобная схема, в нее все укладывается. Возможна другая модель — человек пишет для кино или театра и говорит: делайте с этим, что хотите. А крупные драматурги предлагают готовую схему, в которую можно только влезть и играть по правилам.
«Ростов — это ярко, смешно, но и страшно»
С «Волшебной страной» [сборник мемуаров и анекдотов о ростовской художественной среде рубежа 1980–1990-х, куда в качестве персонажа попал и Лисовский — прим. ред.] Максима Белозора совершенно понятная история. Я хотел дистанцироваться от персонажа, то есть того Лисовского, которого описывает автор. Была анекдотическая ситуация, когда мне в книжном магазине впервые попалась «Синяя книга алкоголика», и там был текст Белозора, листаю, ни сном ни духом, и тут, бац, вижу свою фамилию и имя. Допился, <****> [черт побери — прим. ред.].
Идея сделать спектакль по этой книге родилась спонтанно. Я не был в Ростове лет двадцать, и меня спросили, не хочу ли я сделать спектакль там, и я захотел, потому что это был повод приехать. Туристического интереса у меня к этому городу нет, учитывая, что все это время я слышал о нем исключительно в контексте, что там умер кто-то из знакомых. Я помню, что Ростов — это ярко, смешно, но и страшно. У меня с Ростовом отношения как с пространством, вот и хотелось сделать спектакль о пространстве. Вариант с «Волшебной страной» казался мне самым легким. Есть текст, который ложится на пространство как надо. Все действо построено на отстранении от текста. Там, условно говоря, все реплики как-то вмонтированы в городскую среду: граффити, еще что-то, а актеры произносят ремарки. Я сейчас в Казани буду делать спектакль о татарском языке — там вообще все идет поверх текста. Мне сказали: хочешь сделать спектакль на татарском? Я говорю, хочу, но не на татарском языке, а о нем как о феномене. В центре — человек, который не знает татарского, а с ним говорят на этом языке. Он не понимает, с него считывается биометрия, и этот сигнал во что-то там трансформируется.
«Главной книгой для нас был „Кризис безобразия” Лифшица»
С группой «Искусство или смерть» [объединение ростовских и таганрогских художников, основанное Авдеем Тер-Оганьяном в сентябре 1988 года — прим. ред.] совершенно обычная история: появилось несколько ярких людей, в первую очередь Авдей Тер-Оганьян и Валера Кошляков. Валера бы при любом раскладе не остался незамеченным, а Авдюшу, если бы не перестройка, ждала бы обычная судьба провинциального гения. Он красил бы, красил, а потом спился. Провинциальное бурление обычно убивает, а тут был носик чайника. Идеологии в объединении «Искусство или смерть» особой не было. Были люди, чья визуальная деятельность более-менее соотносилась друг с другом, потому что почти все одного возраста, из одной художественной школы. И, конечно, главной книгой для нас был «Кризис безобразия» Лифшица. Это отличный учебник, если убрать оценочные суждения, с очень толковым иллюстративным материалом. Я прочел, и у меня с тех пор схема изобразительного искусства в голове как влитая. Что еще читали? Я помню, как-то ночью собрались у Авдея на кухне, и Юра Шабельников всю ночь читал какой-то репринт «Голема» Майринка. Прямо скажем, не самый жизненно необходимый текст, его мог заменить кто угодно. Вообще, наше поколение вышло из двухтомника Борхеса, если говорить о текстах, которые сформировали представление о мире, вот это принципиально. Комплекс идей, которыми пользуются многие люди от сорока до шестидесяти, взят оттуда.
«„Волшебная гора” — это то же, что для Ренессанса „Божественная комедия”»
Есть ключевые тексты. «Волшебная гора» Манна, например. Если я когда-нибудь сойду с ума и составлю список обязательного чтения, там обязательно будет «Волшебная гора» под номером один. Это книга-компас, навигатор в мире идей. «Волшебная гора» — это то же, что для Ренессанса «Божественная комедия». Я раньше не знал модного слова «ридинг-группы», но была у меня такая затея, проект «Соцдок», где люди собирались и читали Манна по кругу. Потом в проекте «Трансформатор» мы продолжили чтением Фуко, «Надзирать и наказывать». Честно говоря, я преследовал корыстные цели, потому что читать одному мне было лень, а тут я пообещал сделать эскиз к одному спектаклю, и все сошлось. Происходило все на острове Свияж, там последовательно были построены монастырь, тюрьма и психбольница.
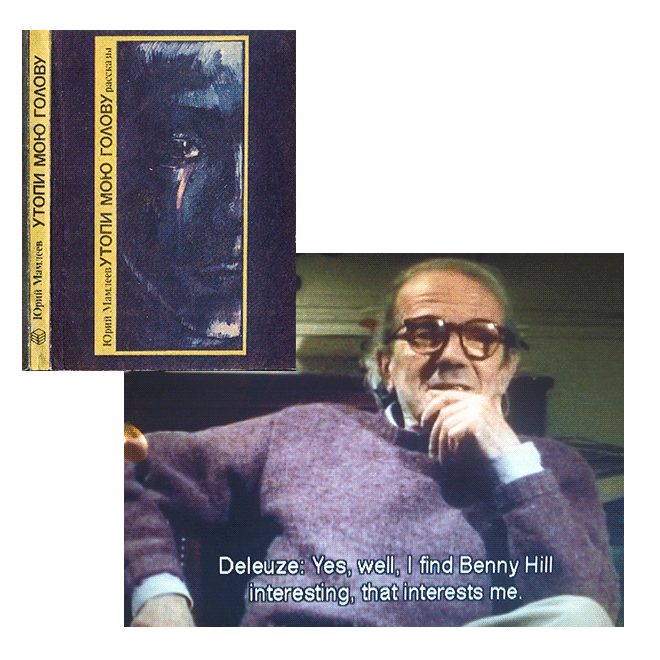
«Передай своему дяде Юре, чтобы шел <*****> [к черту — прим. ред.]»
Про острые литературные впечатления. Не могу читать великого русского писателя Юрия Мамлеева. Вышла у него книжка «Утопи мою голову». Я прочел это замечательное, небольшое, но яркое произведение и на месяц свалился в лежачую депрессуху. Целыми днями не вставал и пялился в потолок, но как-то оправился, вернулся к нормальной жизни. И тут ко мне друг стучится в дверь и говорит: заходи ко мне, ко мне дядя Юра Мамлеев с портвейном пришел. «Передай своему дяде Юре, чтобы шел <*****> [к черту — прим. ред.]», — сказал я и захлопнул перед ним дверь.
«Чтение — это процесс кризиса»
Мои отношения с книгами сломались, когда актуальной стала французская философия. По-моему, я первый раз говорю об этом вслух. У меня комплекс — я не могу читать всяких Делезов. Я как вежливый человек думаю: ну если люди делают все, чтобы я их не читал, зачем я буду? А я понимаю, что весь актуальный контекст идет через этих французских дядек. Нет, есть те, кто подобрей — Ролан Барт, например, — а Делезу с Дерридой скажу спасибо, но вы меня уж простите, родные.
Чтение — это процесс кризиса. Раньше у меня был проект: я приходил в гости, заходил в туалет и фотографировал книжки, которые там лежат. Обратите внимание, сейчас вы приходите в дом, а в туалете книжек нет, потому что в туалет ходят с телефоном. Гаджеты добрались и до туалетов. Хотя один из последних важных текстов я читал как раз с телефона, «Троецарствие». Но это был подвиг.
Если говорить о русской литературе, то здесь, конечно, ранние тексты Сорокина — в фундаменте; нынешние крышу не сносят, где-то изящней, где-то уже как-то излишне многословно. Но это важный писатель. И радует, что человеку не восемьдесят лет. Есть ощущение, что некоторые намечавшиеся перестроечные прорывы, от которых много ждали, не сбылись — все стухло. Но потом понимаешь, что, в общем-то речь идет не о старых людях. Какое-нибудь явление, например «Новая драма», я часто слышу, что она не оправдала ожиданий, а надо понимать, что этим авторам около сорока, и это совершенно обычный возрастной кризис. Но сейчас объективно время деактулизации текста. То есть претензии текста на диктатуру ничем не подкреплены, а текст как обслуживающий инструмент становится вполне заменимым.