«Не думаю, что из книг можно извлечь практическую пользу»
Философ Александр Секацкий о бытии читателя, ненужности нужных книг и Незнайке
I.
О бытии читателя
Мир до сих пор не осознал суть процедуры чтения. По большому счету, чтение похоже на эмбриогенез. Это самая таинственная вещь в биологии: непонятно, зачем плоду за несколько месяцев повторять всю историю жизни на Земле.
Когда мы читаем книжку, мы пребываем в состоянии чтения. Есть «читатели первого дня», «читатели второго дня» — зародыши в каком-то смысле. Странным образом их развитие невозможно ускорить или пропустить. Именно поэтому абсурдной кажется утопия простого переноса файла. Казалось бы, как бы было хорошо, если бы книжки на полке уже перенеслись в состав нашего знания. Но тем самым мы упустим главное — бытие читателя.
Я все время вспоминаю, как читал «Феноменологию духа» Гегеля или «Иосифа и его братьев» Томаса Манна: не знал, что будет дальше, рассматривал развилки, ждал, когда можно будет вернуться в книгу, то есть жил этой своеобразной читательской жизнью... Потом ты становишься читателем четвертого дня и, может быть, испытаешь некие разочарования. А потом, в качестве читателя пятого дня, поймешь что-то, что в итоге может и не подтвердиться.
Если взвесить, сколько такого рода читательский эмбриогенез занимает в нашей жизни, получится солидная цифра. Я почти всегда нахожусь в таком состоянии. Само бытие в качестве читателя, наверное, относится к тому, что греки называли telos [цель — прим. ред.] — жить такой жизнью нужно не для чего-то, а потому что где ты найдешь что-то более приключенческое?
О записках читателя
Я не понимаю, почему нет такого жанра, как записки читателя по ходу чтения. Есть же записки путешественника: в первый день ты заметил одно, во второй — другое. Критика пишется по факту прочтения, что неверно, а если и верно, то это не самое интересное. А самое интересное — это когда ты проник в Канта, Гегеля или Бергсона на 40 страниц, и что-то там обнаружил, и продолжаешь мыслить. Причем совершенно не знаешь, к чему придет автор. И так до самого конца.
Сам этот жанр парадоксальным образом пропущен, и в результате мы не имеем записок потенциально великих читателей. Если бы у нас были такие образцы творчества Гете или Сартра! Вместо этого мы имеем выписанные цитаты, конспекты. Когда я это понял, попытался заполнить лакуну. Так появилось эссе «Читая Катаева», сейчас я дописываю эссе «Читая Гегеля».
Чтение как экспедиция
Мы должны рассматривать сам процесс чтения как экспедицию, командировку, путешествие. Если мы акцентируем эти моменты, то поймем, что чтение — важнейший модус человеческого в человеке. Я уже не говорю об общении по этому поводу: когда встречаются два читателя третьего или четвертого дня, им есть что обсудить.
Есть люди, прекрасно знающие Петербург, ни на что не похожий — с его потайными ходами, местами, где живут друзья. Не каждого туда пустят, но этот человек проведет тебя ночью в какой-нибудь парк, где все карусели закрыты, но только ради того, что пришел он, карусель запустят, и можно будет прокатиться. В этом смысле опытный, интересный читатель мог бы выполнять функцию гида, что тоже было бы дополнением к устоявшимся жанрам в культуре.
 О списках книг
О списках книг
Принято считать, что число книг, которые мы можем прочитать за всю свою жизнь, ограничено. Я встречал разные данные, от 500 до нескольких тысяч, — наверное, они соответствуют действительности. Возникает мысль: не было бы правильно написать список этих великих книг, прочитать их заранее и не тратить время на ерунду? Такого рода утопии встречаются довольно часто.
Рядом с ними находится утопия, которую я называю утопией псевдофундаментальности: непременно нужно начать с Гомера, чтобы дойти до Чака Паланика или Джулиана Барнса. Но все это заканчивается на середине «списка кораблей»: кому-то до литературы трубадуров удается дойти, кому-то до готического романа.
И то и другое я считаю фикцией: полноценная человеческая жизнь не укладывается в расписания. Нужно откликаться на спонтанные движения души и читать первое, что попадется под руку. Если на этом подоконнике на даче нашлась пыльная книга с оторванной обложкой — возьми ее и почитай. Может быть, время не окажется потраченным так уже бесполезно. А иногда расписание поездов за прошлый год может тебя чем-то таким порадовать. Επιφάνια [эпифания, явление божественного — прим. ред.] иногда важнее системы, и сохранять ее необходимо, иначе никогда не выстроится внутренняя бесконечность жизни. А стало быть, и не бойся, что не прочитаешь этот список.
«Мы читаем прекрасные книги только потому, что они есть»
Мне очень нравится изречение Татьяны Москвиной: мы читаем прекрасные книги только потому, что они есть. А не было бы их — и мы бы читали книги похуже. А не было бы их — и мы читали бы книги совсем плохонькие. И это все равно лучше, чем не читать ничего.
Всегда главная проблема в статусе этого занятия. Возможно же инструктивное чтение: я это не знал, а теперь знаю, и можно, как строительные леса, эту книгу отбросить. Возможно чтение, связанное с времяпрепровождением: делать нам нечего или мысли беспокоят и не удается заснуть. Здесь применяется какой-нибудь поводырь чужого воображения вроде детектива. Глядишь — мысли прилипли, как железные опилки к магниту, сложились в какую-нибудь сонную фигуру, и ты засыпаешь.
Но статус чтения может быть пониманием того, что ты на самом деле выходишь в некий мир — синтетический, искусственный, один из возможных, — и в нем какое-то время живешь, оставляя на всякий случай здесь свое телесное представительство. А поскольку это занятие больше ни для чего не нужно, кроме того, чтобы там, в ином мире, жить, я его связываю с тягой к многомерности. Я не думаю, что из книг можно извлечь какую-то практическую пользу.
Космические скорости чтения
Я начал интерпретировать это в духе космических скоростей. Есть три космические скорости. Первая нужна, чтобы выйти на земную орбиту. Вторая позволяет покинуть ее и путешествовать по Солнечной системе, третья означает возможность выйти за пределы Солнечной системы. Так же и с читательскими орбитами. Есть экзистенциально важная вещь — каждый человек хочет подключиться к историям других людей, особенно если они насыщены приключениями, там есть интрига, какое-то количество разговоров. Это первый момент, который выводит нас на орбиту читателя. На второй ступени важность приобретает магический порядок слов — ты понимаешь: «Вот Набоков. И не так уж и важно, о чем он пишет, — важно, как он пишет». На третьей ступени ты можешь отследить эволюцию автора, степень совпадений с собственной жизнью, можешь размышлять: а мог бы, хотел бы я так написать?
Против Смердякова
Многие наивно думают: заслуга современности в том, что мы смогли уйти от всего-навсего чтения про себя и смогли предъявить роскошный видеоряд в кино, разного рода интерактивности, гипертекст. Но элементарный взгляд на историю показывает нам, что все это было до того, как сформировался навык чтения про себя — были удивительные мистерии, сатурналии; нельзя было слушать музыку, не подтанцовывая и не подпевая. Изобретение навыка чтения про себя, быстрого вхождения в портал иномирности, является одним из величайших человеческих открытий, сопоставимого с открытием огня.
Читательскими мирами я был очарован лет в пять и до сих пор сохраняю эту очарованность. Непонятно, для чего нужно пребывание в этих мирах, но я настаиваю, что в этом есть самодостаточность. Если Смердяков говорит: «Не люблю я книжки, в них про неправду все написано», я утверждаю: сама комплектация души требует того, чтобы мы жили в нескольких мирах сразу.
II.
О детском чтении
Я родился в Минске, мой отец был военным летчиком. Семья много кочевала, особенно по советской Азии. Школу я закончил в городе Токмак, находящемся в Киргизии. Отец, как положено летчику, любил Сент-Экзюпери, Ремарка и в меру сил эти книжки мне подсовывал. Мать работала учительницей и читала огромное количество методической литературы, но ей не всегда удавалось дорваться до чего-нибудь типа Толстого или Гоголя.
 В детстве я был брошен на произвол судьбы, но вокруг меня были хорошо укомплектованные книжные полки, тщательно перевозившиеся из города в город. Из них можно было какую-то жемчужину выловить. Там я, в частности, когда-то и нашел второе издание «Критики чистого разума» Канта в переводе Соколова. Это было, может быть, классе в седьмом или восьмом. Я начал читать, и было совершенно непонятно, о чем это. Но при этом я понял, что книга невероятно хороша и прекрасна. А так как я был отличником и какие-то учебники понимал с полуслова, это задело, и я перечитывал Канта до тех пор, пока не понял от начала и до конца. По крайней мере, я тогда считал, что понял. Это уже потом осознал, что мое понимание было сильно преувеличенным.
В детстве я был брошен на произвол судьбы, но вокруг меня были хорошо укомплектованные книжные полки, тщательно перевозившиеся из города в город. Из них можно было какую-то жемчужину выловить. Там я, в частности, когда-то и нашел второе издание «Критики чистого разума» Канта в переводе Соколова. Это было, может быть, классе в седьмом или восьмом. Я начал читать, и было совершенно непонятно, о чем это. Но при этом я понял, что книга невероятно хороша и прекрасна. А так как я был отличником и какие-то учебники понимал с полуслова, это задело, и я перечитывал Канта до тех пор, пока не понял от начала и до конца. По крайней мере, я тогда считал, что понял. Это уже потом осознал, что мое понимание было сильно преувеличенным.
Детские книги и импринтинг
Детские книги невероятно важны благодаря импринтингу. Помните эксперименты Конрада Лоренца, установившего, что только что вылупившиеся цыплята или утята считают мамой первое существо, которое к ним приблизится. Если пронести в этот момент пушистую подушку или чучело коршуна, они будут за ним следовать.
У меня таким импринтом были книги про Незнайку. Я начал читать лет в пять, а может, и раньше, и на протяжении двух-трех лет они были моими любимыми книгами. Это до сих пор сказывается в системе внутреннего цитирования. Замечательные тезисы Незнайки — например: «Еще не доросли до моей музыки. Вот когда дорастут — сами попросят, да поздно будет. Не стану больше играть» — я использовал для описания проблемы маниакального авторства в современном искусстве.
«Белеет парус одинокий» Катаева я прочел лет в десять и понял, что эта вещь очень хорошо написана — просто шедевр. До встречи с такими книгами ты предполагаешь, что имеют значение приключения, причем нет разницы между приключениями Д’Артаньяна и Абсолютного духа. Но в какой-то момент возникает понимание, что параметры мира, в котором ты оказался, может быть, не так и существенны. Существен способ, которым это сделано, магия порядка слов. Интерес к Катаеву сохранился и в дальнейшем: его «Алмазный мой венец» по сей день является для меня образцом мемуарной прозы. Другим образцом является, скажем, «Speak, Memory» и «Другие берега» Набокова.
О ненужности нужных книг
Помните, у Высоцкого есть такая строчка — «Значит, нужные книги ты в детстве читал». Это одно из педагогических заклинаний, которые сводятся к тому, что тот, кто читал в детстве нужные книжки, вырос не подлецом, смог что-то такое морально-истинное в себе культивировать. Нужные книжки своего рода букварь добродетели. Размышляя над этим, я понял, что нам хотелось бы, чтобы мир был устроен так, но он устроен не так. Скорее, наоборот: путешествие в книжные миры обесточивает контакт с реальностью. Если мы привыкли следить за сложными психологическими переживаниями Анны Карениной, князя Мышкина или мадам Бовари и обнаруживаем, что вокруг не столь загадочные и сложные люди, — чувства придуманных персонажей вытесняют тот неброский психологический антураж, в котором мы живем. Появляется специфический книжный ребенок, не знающий живой жизни.
Я бы мог быть совершенно книжным ребенком, если бы не номадический образ жизни. Я, например, в шести школах учился. А вы представьте себе, что значит мальчишке, новичку, прийти в пятый класс, потом в девятый. Тут навыки книжного ребенка тебе ничем не помогут — так же, как и навыки отличника. Дворовые компании мне были в высшей степени знакомы, как и необходимость постоять за себя.
Самиздат
Начиная со старшего школьного возраста и вплоть до перестройки я читал самиздат. Все было в рамках доступности — Солженицын, Милован Джилас, Набоков, Ницше и Бергсон в старых русских переводах. Не говоря о том, что с конца 1970-х годов существовала система продажи англоязычной литературы: существовали такие магазины, где можно было купить книги, которые ни при каких обстоятельствах не могли появиться бы на русском. Начиная с «Brave New World» Олдоса Хаксли и заканчивая какими-нибудь популярными американскими социологами.
В мире самиздата всегда есть свои сталкеры, поводыри. Опознается же книжный ребенок. Не то чтобы он был совсем не от мира сего, но видно, что, может, «Приглашение на казнь» и прочтет. Тексты имелись в хождении, в распечатке — как говорилось тогда, отксеренные или «отэренные». Удивительное ощущение, когда они тебе давались на одну ночь. Как раз «Приглашение на казнь» мне было дано на одну ночь, и это было мое первое знакомство с Набоковым.
Поздняя советская эпоха была устроена удивительным образом. Там существовал своего рода теневой коммунизм и его прямые бенефициары, гигантский праздный класс: сторожа, рабочие, кочегары, операторы газовых котельных. Они приходили на некую условную работу и там занимались творчеством, обменивались стихами, произведениями живописи, читали.
Но, в принципе, средний советский человек второй половины 1970-х годов был уникальным феноменом. Он — или это, допустим, была она, сотрудница НИИ — приходил на работу, выполнял несколько формальных движений, поливал цветы и был свободен к тому, чтобы читать Набокова, Солженицына или обсуждать Тарковского. Мир никогда раньше не знал такой гигантской резонансной среды и больше не узнает ее — сейчас все разбросано по крошечным электронным коммьюнити. Потрясающий резонанс от батла Оксимирона и Гнойного — единственное, что может близко сравниться с выходом в журнале «Иностранная литература» перевода книги Габриэля Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества». Но и это будет лишь жалкое подобие.
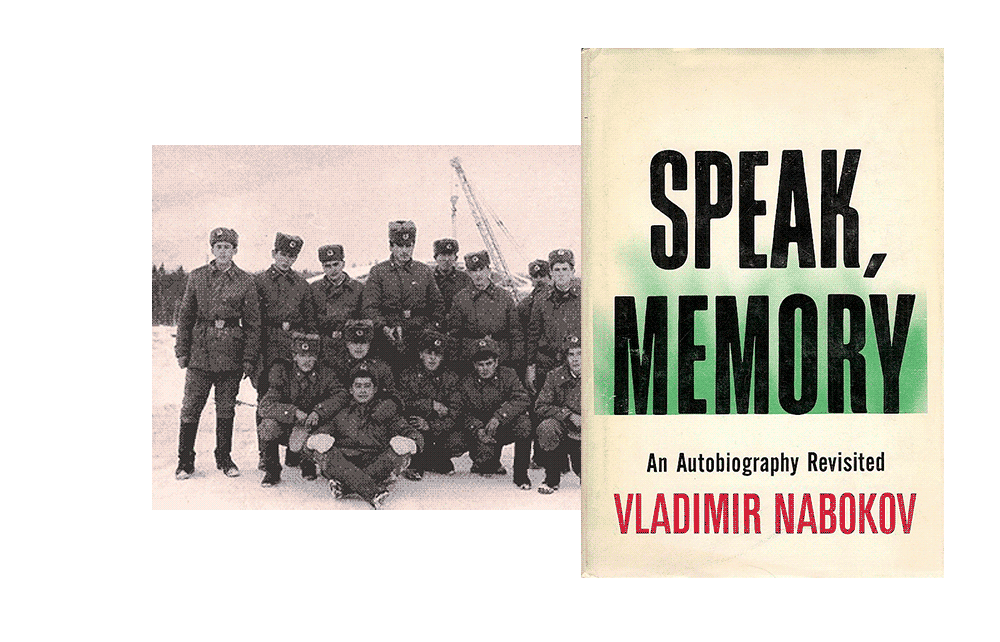
Следственный изолятор КГБ
В 1975 году я поступил на философский факультет Ленинградского государственного университета, а в 1977-м провел четыре месяца в следственном изоляторе КГБ на Литейном проспекте из-за антисоветской агитации. Незадолго до пятидесятилетия Октября мы с однокурсниками разбросали листовки, начинающиеся с обращения «Соотечественники!» и заканчивающиеся фразой «Мы верим, что наступит конец молчанию».
В изоляторе можно было читать: библиотека с русской классикой и переводными изданиями существовала. К тебе приходила в сопровождении конвоира ее работница, можно было кратенько побеседовать — и целых три книги на неделю взять. А поскольку в камерах было по два-три человека, чтения было вполне достаточно. Имелись вещи от Карамзина до Маркеса, даже были какие-то книжки — например, Мережковский в дореволюционном издании, — которые просто так в городской библиотеке не найдешь.
Изгнание и дальше
В изолятор КГБ меня завело не чтение, а воля к контактному проживанию, желание изменить что-то в этой действительности. А вскоре после того, как вышел на свободу, я оказался в стройбате. Это были, с одной стороны, всегда полукриминальные войска: туда призывались те, кто проходил по малолетке и не мог быть призван в более серьезные войска, или те, кто плохо знал русский язык — парни из азербайджанских и узбекских окраинных сел. Но были и люди, по разным причинам исключенные из университетов. Там я познакомился со множеством свидетелей Иеговы: тех граждан СССР, которые не хотели брать в руки оружие, ждала жесткая альтернатива — либо 4 года тюрьмы за уклонение от призыва, либо стройбат.
В стройбате в каком-то смысле очень сложно первые полгода — нужно отстаивать место под солнцем. Но в дальнейшие 1,5 года напряга с чтением особенно не было. Чем занимается стройбат? Его с утра выводят на объект. Всегда можно сделать так, чтобы работа встала: расходные материалы кончились, что-то запороли — возникает определенное зависание и каждый занимается своим делом. К тому же есть ночные дежурства. Однако возникала другая проблема — с доступом к книгам: была какая-то библиотека, но гораздо хуже, чем в СИЗО. И все равно какие-то книжки получали, передавали кому-то и сами обменивались.
До того, как вернуться на философский факультет ЛГУ, я работал сторожем, киномехаником, табунщиком, рабочим сцены. Это было изгнание, но оно касалось только невозможности как-то встроиться в социальную лесенку. Свободного времени было более чем достаточно — читай, что хочешь; беседуй, с кем хочешь. Тогда постоянно прочитывался весь корпус философской классики — от фрагментов ранних греческих философов до Гегеля. Когда делать было нечего, старался изучать языки — немецкий, французский, польский — и читать на них книжки.
В дальнейшем я тоже использовал каждую свободную минуту для чтения и письма. Есть люди, которым нужна определенная комфортность условий. Им нужна зеленая лампа, стол ровный, чтобы никто не беспокоил. Не дай бог где-то еще включен телевизор. Для меня это все несущественные факторы. Можно работать в поезде, в маршрутке. Помню, когда я был дворником в аспирантские годы, нередко среди всяких швабр, метел и ломов для скалывания льда можно было усесться и что-то почитать. Я до сих пор могу работать, когда свободен уголок стола, и через каждые пять минут тебя о чем-то спрашивают. Хотя подавляющее число моих знакомых рассматривают это как извращение: «Нормальному человеку такое недоступно».