Не читал, но уважаю
Пять книг нобелиатов, с которыми мало кто знаком
Все мы знаем их имена и делаем вид, что хорошо знаем их книги, ведь они — классики, а мы — их ценители. Но самих себя не обманешь. По просьбе «Горького» Армен Захарян рассказывает о пяти незаслуженно забытых книгах нобелевских лауреатов, с которыми обязательно стоит ознакомиться: от греческого модернизма и балканской хроники до магического реализма и прозы абсурда.
Брат Юнипер, герой «Моста короля Людовика Святого» американского писателя Торнтона Уайлдера, в начале романа видит, как самый красивый мост Перу внезапно обрушивается в пропасть, унося с собой пятерых спутников. «Любой на его месте, — пишет Уайлдер, — подумал: «Еще бы десять минут — и я тоже...». Но первая мысль брата Юнипера была другой — «Почему эти пятеро?».
Этот текст я бы хотел начать с ответа на тот же вопрос: почему в сегодняшнем списке оказались именно эти книги и именно эти авторы? Что их объединяет и чем они отличаются друг от друга?
Во-первых, все пятеро — лауреаты Нобелевской премии по литературе. Награда отчасти переоцененная, но здесь она отвечает за статус «классика» — иначе можно было бы без конца спорить о том, кого считать классиком, так и не добравшись до самого интересного — до книг.
Во-вторых, все пятеро — авторы XX века, что позволяет сочетать актуальность и современность их прозы с известной дистанцией, отделяющей от нее и позволяющей взглянуть на их творчество со стороны. Все книги, о которых пойдет сегодня речь, создаются в период с середины 1920-х до середины 1950-х годов.
Наконец, в-третьих, все пятеро — очень разноплановые авторы, совершенно друг на друга не похожие, а представленные в обзоре книги относятся к разным жанрам и выполнены в разной технике, чтобы частично отразить многообразие литературных форм первой половины прошлого века.
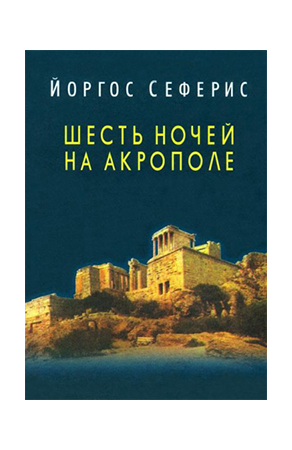 Греческий модернизм: Йоргос Сеферис, «Шесть ночей на Акрополе» (1926–1954)
Греческий модернизм: Йоргос Сеферис, «Шесть ночей на Акрополе» (1926–1954)
Первый греческий лауреат литературного Нобеля, Йоргос Сеферис, был рожден под знаком Одиссея. Его детство прошло в небольшом городке Вурла в Малой Азии, неподалеку от Смирны. Однако в 1922 году, когда двадцатидвухлетний Сеферис обучался в Сорбонне, греков постигла «малоазийская катастрофа»: они потерпели поражение в затяжной войне с турками и были изгнаны из Малой Азии (сегодня — территория Турции). Смирна превратилась в Измир, а Сеферис стал скитающимся Одиссеем и потерял дом своего детства, о котором много позже напишет: «Это единственное место, которое я даже теперь могу называть моей родиной в самом истинном смысле этого слова».
Вынужденный разрыв с родными местами и последующие скитания Сефериса-дипломата (он жил и работал в Албании, Египте, Италии, Ливане, Сирии, Ираке, Лондоне и проч.) сильно повлияли на Сефериса-поэта. Странствия в поисках — Родины ли? своего ли места? или себя самого? — стали одной из важных тем его творчества. Эта же линия поиска и путешествия прослеживается и в «Шести ночах на Акрополе».
Сеферис известен всему литературному миру в первую очередь как поэт. «Шесть ночей на Акрополе» — его единственное прозаическое произведение, притом весьма странное. Это маленькая книжка — меньше двухсот страниц — писалась в течение почти трех десятилетий, она впервые была опубликована уже после его смерти, она так никогда и не получила признания. Сам Сеферис, закончив этот роман, записал в своем дневнике: «При желании его можно уничтожить или сделать пятитомным».
«Шесть ночей на Акрополе» — это мистическая фантасмагория, изысканный образчик греческого модернизма в шести главах, книга о любви и одиночестве, ожидании и взрослении. Это история нескольких друзей, которые отыскивают в бушующем океане жизни свой недвижимый остров постоянства, афинский Акрополь, и договариваются встречаться там шесть полнолунных ночей подряд. Дальнейшее — это обрывки их судеб и воспоминаний, дневниковые записи и трогательные в своей откровенности сексуальные переживания, встречи и расставания. «Шесть ночей на Акрополе» — это вечное плавание в поисках себя по фрагментам очень плотного текста, насыщенного отсылками к истории и искусству: от Гомера и Эсхила до Данте и Эль Греко. И в центре этого путешествия — Акрополь, который оказывается не островом и не скалой, но чем-то противоположным: светящимся на вершине холма кораблем — стоящим на якоре и готовым к отплытию.
«Я столько ждал в жизни, что научился считать естественным тщетное ожидание: если увидишь девушку без шляпы, которая поворачивает за угол на тротуаре у Музея, трамвай будет переполнен и не остановится; если увидишь такси, номер которого оканчивается на четверку, табачника в киоске не будет; если увидишь небритого человека с губами, сморщенными настолько, что не слышно его свиста, того, кого ты ожидаешь, ожидаешь зря».
 Палеопроза: Уильям Голдинг, «Наследники» (1955)
Палеопроза: Уильям Голдинг, «Наследники» (1955)
Голдинг, пожалуй, самый известный и читаемый автор из тех, кого мы сегодня решили вспомнить. Его «Повелитель мух» — культовое произведение XX века, изображенный в романе «Шпиль» Солсберийский собор и по сию пору привлекает многочисленных туристов (которым советуют посмотреть на него друзья), а самые внимательные читатели добираются даже до «Свободного падения» или «Морской трилогии». Однако разрыв между популярностью «Повелителя мух» и прочей прозы Голдинга остается огромным. Еще при жизни он скажет: «Похоже я становлюсь писателем, которым все восхищаются и которого никто не читает».
Если вы тоже знакомы только с «Повелителем мух» или «Шпилем», то обратите внимание на второй роман Голдинга — «Наследники», один из интереснейших литературных экспериментов пятидесятых: книгу, которую сам Голдинг считал одной из своих лучших работ, писатель Артур Кестлер сравнивал с землетрясением, а Егор Летов отмечал в списке произведений, наиболее на него повлиявших.
«Наследники» — это «доисторический» роман, палеопроза о первобытных людях. Однако его главная особенность заключается в том, что Голдинг не просто решил изобразить быт или нравы наших предков, он постарался показать мир первобытных людей их глазами, показать их «умвельт» (так ученый Якоб фон Иксклюль назвал собственное мироощущение живого организма). Голдинг не только пишет о первобытных людях, он пытается говорить их языком, обонять их носом, ощущать их пальцами, трепетать их страхом, он сам становится одним из них, он забирается им в черепную коробку, он смотрит на мир их глазами. И тем самым он превращает нас, своих читателей, в первобытных людей.
Еще работая школьным учителем (доходы от «Повелителя мух» не позволяли ему полностью посвятить себя писательскому труду), в аккуратных школьных тетрадях он пишет роман, который перемещает нас на 40 тысяч лет назад. Голдинг вырывает из нашей истории один эпизод — встречу наших предков с другим видом людей, с которым мы какое-то время были соседями по планете, — неандертальцами. И воображает, каким мог бы быть такой контакт. Так появляются «Наследники» — роман одновременно и о том, что мы, и о том, что могло бы быть вместо нас.
«Фа медленно повернула к нему голову. Глаза, в которых отражались крохотные костры, похожие друг на друга, как близнецы, вращались подобно глазам старухи, когда она плавала в воде. От шевеления кожи вокруг рта — что вовсе не означало намерения заговорить — губы ее дрогнули, затрепетали совсем как у новых людей, сомкнулись; потом они разомкнулись опять и тихо произнесли:
— Оа не рождала этих людей из своего чрева».
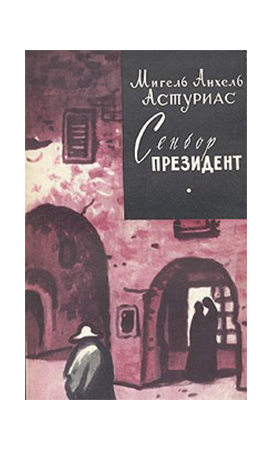 Магический реализм: Мигель Анхель Астуриас, «Сеньор президент» (1946)
Магический реализм: Мигель Анхель Астуриас, «Сеньор президент» (1946)
Мигель Анхель Астуриас уникален тем, что для лучшей латиноамериканской литературы XX века он стал кем-то вроде первопроходца. Этот проницательный человек из Гватемалы решал художественные задачи, типичные для латиноамериканской прозы, «когда это еще не было мейнстримом». Астуриас одним из первых писателей своего региона обратился к темам индейского фольклора и стал вплетать его в свою прозу, а также написал великое произведение в жанре, которое получит потом в Латинской Америке широкое распространение и собственное имя — «novela del dictador» — роман о диктаторе.
Роман «Сеньор президент» — это, скорее всего, самая известная в России книга Астуриаса, и тем не менее, ее мало читают (хотя к этому есть все предпосылки). Так называемый литературный «латиноамериканский бум», главным представителем которого является, конечно, Габриэль Гарсиа Маркес, породил в 1970-х годах целую плеяду романов о диктаторах: «Превратности метода» Карпентьера (1974), «Я, Верховный» Бастоса (1974), «Осень патриарха» Маркеса (1975). А теперь представьте: Мигель Анхель Астуриас написал «Сеньора президента», гениальную латиноамериканскую фантасмагорию о природе власти и диктатуры, — за 40 лет до этих авторов!
«Сеньор президент» был окончен в 1933 году, хотя по политическим причинам книгу не удавалось опубликовать вплоть до 1946. Впоследствии критики будут спорить, можно ли относить этот роман к магическому реализму или его стоит считать одним из предвестников метода, а также о том, является ли «Сеньор президент» образчиком сюрреализма.
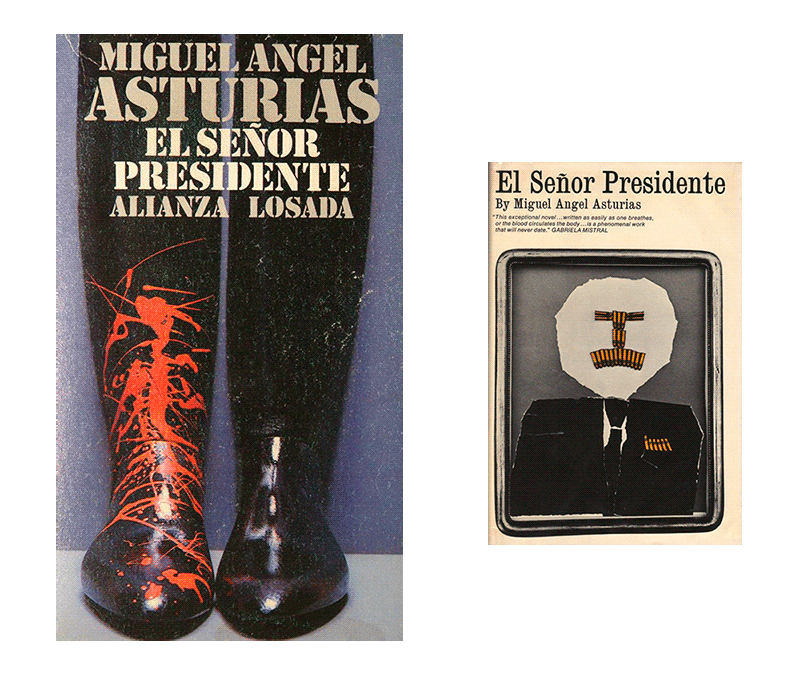 Объяснить в нескольких словах, о чем эта книга, или пересказать ее сюжет весьма затруднительно: «Сеньор президент» — это причудливая смесь сюрреализма с магическим реализмом, здесь нет линейной структуры повествования, арки персонажа и прочих «сценарных» приемов, которые облегчают понимание. Это страшная и сильная история о власти и человеке, о долге и зле, о смерти и любви. «Сеньор президент» — это плотная вязь удивительного текста, в котором запутываешься и теряешь ход времени.
Объяснить в нескольких словах, о чем эта книга, или пересказать ее сюжет весьма затруднительно: «Сеньор президент» — это причудливая смесь сюрреализма с магическим реализмом, здесь нет линейной структуры повествования, арки персонажа и прочих «сценарных» приемов, которые облегчают понимание. Это страшная и сильная история о власти и человеке, о долге и зле, о смерти и любви. «Сеньор президент» — это плотная вязь удивительного текста, в котором запутываешься и теряешь ход времени.
«Все казалось нетрудным, пока не залаяли псы в парке, отделявшем Сеньора Президента от врагов, — в чудовищном парке, где деревья имеют уши, и уши эти при малейшем шорохе содрогаются словно от ветра. Ни звука на мили вокруг, все жадно впитали в себя миллионы хрящеватых ушей. Псы не унимались. Невидимые нити — куда тоньше, чем телеграфные провода, — вели от каждого листка к Сеньору Президенту. Он внимательно слушал все, что происходит в самой глубине души его подданных».
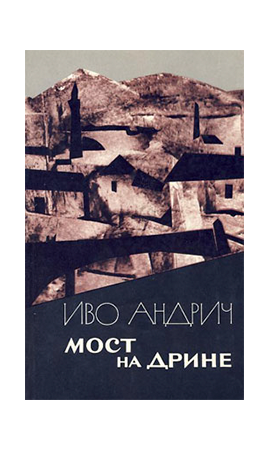 Балканская хроника: Иво Андрич, «Мост на Дрине» (1945)
Балканская хроника: Иво Андрич, «Мост на Дрине» (1945)
Иво Андрич в России известен преимущественно в двух сообществах: балканофилов и толкинистов. С первыми все понятно: один из самых известных писателей Югославии, прославивший ее столицы и окраины, — от Белграда до Херцег-Нови, от Травника до Вышеграда. Известность же его среди вторых — это слава Герострата: для толкинистов Андрич является безвестным югославом, который украл у их любимца Нобелевскую премию 1961 года.
Я тепло отношусь к Толкину и неоднократно перечитывал «Властелина колец», но, согласитесь, Андрич не может отвечать за решения Нобелевского комитета. В конце концов, он оказался в одной компании с Бобом Диланом, а Толкин — с Джеймсом Джойсом, так что тут еще подумаешь, какому соседству завидовать.
Биография Андрича столь же увлекательна, сколь поразительна история югославской земли: до наступления своей писательской славы в середине XX века он успел защитить диссертацию (в Австрии), посидеть за свои политические убеждения в двух тюрьмах (сначала в Хорватии, потом в Словении), провести несколько лет под домашним арестом (в Боснии), поработать дипломатом в Ватикане, Бухаресте, Женеве и нацистской Германии. В довершение этого он оставил своим южнославянским соотечественникам прекрасный «подарок» в виде двух документов: 1914 года, когда при поступлении в университет он указал свою национальность как хорват, и 1951 года, когда в паспорте попросил записать себя сербом. Стоит ли говорить, что споры о его национальной принадлежности ведутся до сих пор, а вопрос «Чей Андрич?» широко обсуждается сербами, хорватами (и боснийцами). Впрочем, преимущественно теми, кто книг его не читает.
В середине 1940-х Андрич заканчивает свой главный роман — «Мост на Дрине»: балканскую хронику, зафиксировавшую перемены и переломы нескольких столетий на небольшом клочке земли.
В центре книги Андрича Вишеградский мост — восхитительный образчик османской архитектуры, строительство которого начинается в XVI веке. История народов и государств, взлет и падение империй, расцвет и опустение борделей, смены властей и поколений, красавиц и дураков, смельчаков и преступников — и все это Андрич рассказывает через призму моста, который становится главным героем романа, героем, вокруг которого крутится мир.
Книга Андрича — это удивительный исторический роман: образчик того, как мало талантливому автору нужно пространства, чтобы путешествовать во времени. Это погружение в балканскую историю, погружение в национальный сербско-боснийский колорит, погружение в водоворот событий, стремительно бегущих подобно водам Дрины под мостом, который один остается на месте — недвижимый наблюдатель и безмолвный рассказчик.
«Главное, доказывал он, не в том, быстро ли идет человек, а в том, куда он идет и по какому делу, и что поэтому быстрота далеко не всегда благо.
— Если идешь в ад, лучше идти помедленнее, — язвительно наставлял Али-ходжа одного молодого торговца. — Круглым идиотом надо быть, чтобы воображать, будто австриец для твоего блага старается, в расходы входит и свою машину запускает... Езди себе на здоровье, разъезжай, сколько влезет, боюсь только, как бы тебе вся эта езда в один прекрасный день боком не вышла. Не завез бы как-нибудь тебя австриец в такие места, куда и в мыслях у тебя не было охоты забираться».
 Абсурдизм: Сэмюэл Беккет, «Уотт» (1953)
Абсурдизм: Сэмюэл Беккет, «Уотт» (1953)
«Однажды в больнице я слышал, как в одной из палат кричал человек, умиравший от рака горла. Мое творчество — такой же крик». Это признание ирландского писателя Сэмюэля Беккета является своеобразным прологом ко всем его книгам. Беккет — один из наиболее парадоксальных, сложных (местами — для чтения, местами — для понимания, местами — для принятия) и вместе с тем гениальных авторов XX века.
Дружба с Джеймсом Джойсом, письмо Эйзенштейну с просьбой принять его в Государственный институт кинематографии (оставшееся без ответа), участие в рядах французского сопротивления в годы нацистской оккупации, отказ присутствовать на вручении ему Нобелевской премии и произносить соответствующую речь (Беккет вместо этого уехал в Марокко)... — вот только некоторые факты биографии его затянувшейся жизни.
Беккет был замкнутым человеком, тяготевшим к молчанию и всю жизнь бившимся над вопросами, ответов на которые — и он, вероятно, это понимал — никогда не найдет: преимущественно о смысле жизни и смысле смерти. Как написала об этом его биограф Алла Николаевская: «Беккет часто бывал у Джойса. Беккет, как и Джойс, любил тишину: часто во время бесед они замолкали, объясняясь знаками, погрузившись в печаль, — Беккет размышлял, главным образом, о судьбах мира, Джойс — о самом себе».
Сегодня Беккет известен, в первую очередь, по пьесе «В ожидании Годо» — одному из шедевров абсурдистской драматургии XX века. Некоторые добираются до других его пьес (среди которых есть даже «Действие без слов»), до первого романа «Мерфи» (в поисках издателя этот текст успел получить около 40 отказов) или до трилогии «Моллой» — «Мэлон умирает» — «Безымянный». Однако «Уотт» остается, пожалуй, одним из самых малоизвестных романов Беккета.
«Уотт» — это лучшее воплощение формулы, озвученной в самом начале, где творчество Беккета уподобляется крику умирающего человека. Все, что можно было поломать, извратить или вывернуть наизнанку в этом романе (антиромане?) поломано, извращено и вывернуто наизнанку. Здесь полностью нарушена коммуникация между персонажами, сами персонажи — это карикатурные шаржи, в каждой строчке сквозят разочарование, презрение и бессмысленность бытия, а главные художественные приемы — бесконечные повторения, перечисления, допущения и уточнения.
Некий мистер Уотт добирается до дома мистера Нотта, где прислуживает ему вместе с другими персонажами. Позвольте мне ограничиться этой фабулой и уклониться от дальнейших попыток пересказать сюжет, поскольку они обречены на провал: в «Уотте» нет привычных сюжетных линий и перипетий, смыслов и моралей. Многим неподготовленным читателям вполне может показаться, что перед ними бессвязная бессмыслица, читать которую — пустая трата времени и сил.
Действительно, «Уотт» — это предельно абсурдная проза. Ее абсурд усугубляет еще и то обстоятельство, что он подчеркнуто структурирован и как будто подчинен некой внутренней логике. Это, если хотите, комбинаторика абсурда: Беккет выстраивает внешне логичные и стройные цепочки взаимосвязей между бессмысленными фактами и событиями, что еще сильнее сбивает с толку.
Однако предельный абсурдизм этой книги решает важные для Беккета художественные задачи. Во-первых, «Уотт» — это роман о непостижимости истин и условности всяких смыслов. Мы можем анатомировать действительность, препарировать ее, комбинировать и переставлять местами, рассматривать так и эдак — она все равно останется для нас непознаваемой, ускользнет из-под пальцев. А во-вторых, эти цепочки перечислений и уточнений создают ощущение абсурда не только повседневного бытия, но и искусства, в котором многие послевоенные художники все еще видели «спасательный круг» человечества. Пышные метафоры, красивый слог, развитие действия — все это может быть заменено примитивным набором комбинаций из нескольких предметов, потому что и то и другое одинаково бессильно перед лицом небытия.
Абсурдность «Уотта» — это гротескная аллюзия на абсурдность человеческого существования. Погружаться в его цепочки и комбинации — это как идти по краю бездны, за которым только черная пустота — пучина бессмыслицы, к которой сводится жизнь. Как сказал об этом романе биограф Беккета Джеймс Ноулсон: «Такое можно писать, подумает читатель, только в состоянии полного безумия».
«Уотт и раньше видел, как улыбаются люди, и полагал, что понял, как это проделывается. И действительно, улыбка Уотта, когда он улыбался, больше напоминала улыбку, чем усмешку, к примеру, или зевок. Но в улыбке Уотта чего-то не хватало, недоставало чего-то маленького, и люди, видевшие ее впервые, а большинство людей, ее видевших, видело ее впервые, порой пребывали в сомнениях по поводу того, какое именно выражение лица подразумевалось. Многим казалось, что он просто скалит зубы».