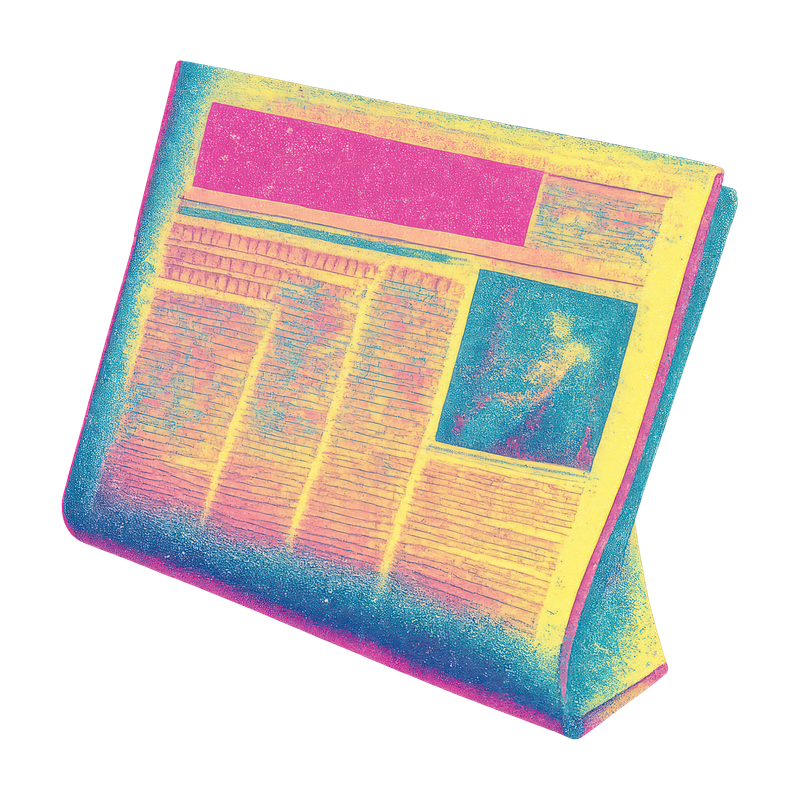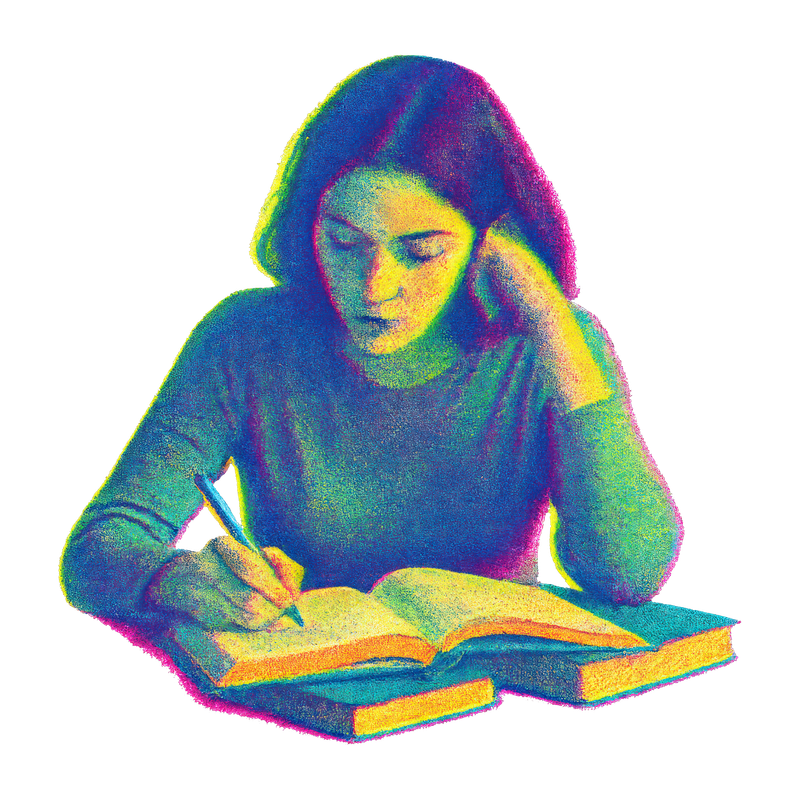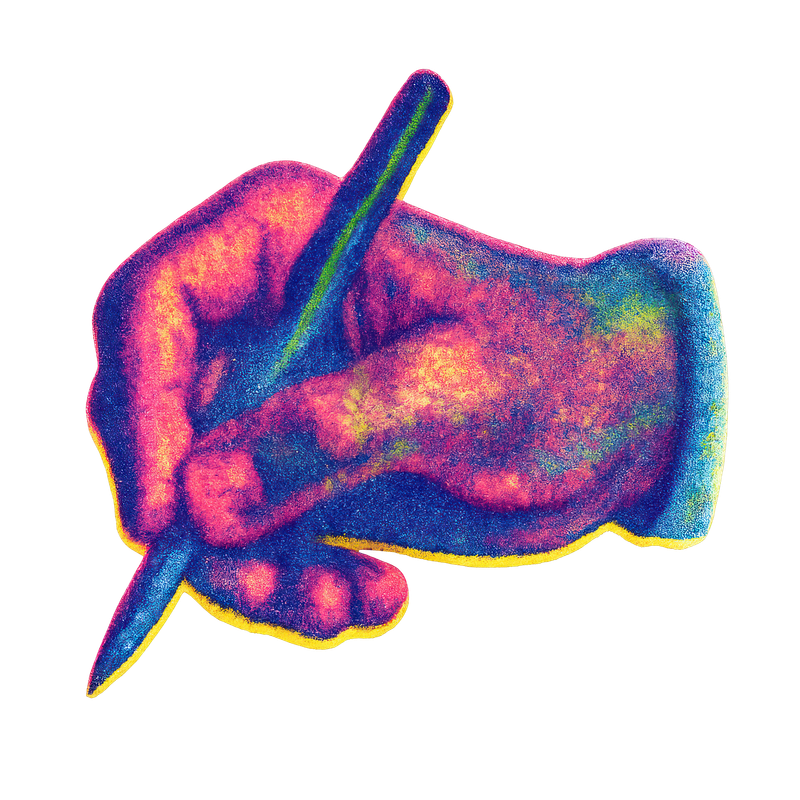«Наступает время скрывать книжечки, читать все про себя»
Александр Бренер и Лев Оборин о книгах и чтении сегодняшнего дня
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Александр Бренер: Есть известное высказывание Карла Крауса, много и неистово писавшего о Первой мировой войне и вдруг ставшего очевидцем прихода к власти человека, который совсем скоро развяжет Вторую мировую: «Что касается Гитлера, то ничто не приходит мне на ум». Эта невеселая шутка — безупречное свидетельство блестящего ума, столкнувшегося со столь чудовищной реальностью, что адекватным ответом на нее стало только признание в бессилии своего разума, своего понимания.
Сегодня этими словами Крауса можно отреагировать на многое, в том числе и на предмет нашего разговора: «Что касается книги, ничто не приходит мне на ум». Почему? А потому, что в нынешние позорные времена, оглашаемые ужасающей какофонией политических событий, производящих бесчисленные суждения в форме экспертных книг, журнальных статей, стихов, романов, повестей, журналистских репортажей и сплетен в социальных сетях, говорить о книге как о месте поиска истины, справедливости, веры и воображения крайне затруднительно. Книга, а точнее бесконечное (пере)производство книг, превратилась не только в один из неисчислимых продуктов «товарного фетишизма», не только в еще один атрибут «общества спектакля», но и в совершенное ничто, поскольку нигилизм пронизывает всю современную культуру сверху донизу. Это полное обесценивание книги сопровождается упорным навязыванием ей высокого социокультурного статуса, то есть всевозможными ярмарками, премиями, конференциями, критическими обзорами и прочими рыночными механизмами. И тем не менее, как вызывающе заметил Жиль Делёз, некоторые книги, лежащие на прилавках книжных магазинов, должны эти магазины просто-напросто взрывать. Вот об этом — о законченной тривиализации и нуллификации книги, с одной стороны, и ее предполагаемом подрывном, освободительном потенциале, с другой — и стоит поразмышлять.
|
Лев Оборин: Тут есть одна вещь, которая меня очень занимает. Идея коммодификации, коммерциализации и обесценивания книги младше, чем книга как таковая, и я не сомневаюсь, что книга эту идею переживет. Не стоит забывать, что изначально книга — элитарный предмет, обеспеченный, например, рабочим временем раба-писца или монаха-переписчика (а также большим количеством бараньей кожи). Печатный станок, с одной стороны, запускает долгое движение к демократизации чтения, с другой, открывает дорогу для рассуждений о том, что книга обесценивается — чем-то напоминающих мысли Сократа и Платона о вреде письменности. Новейшая итерация этих рассуждений — ламентации по поводу ИИ. Интересно, в каком месте происходит столкновение мыслей о ценности книги (как чего-то элитарного или, напротив, демократичного) и о ее профанации или увядании (в тех же качествах: к примеру, на большинство современных «подарочных изданий», предполагающих статусность и дороговизну, невозможно взглянуть без слез, но то же касается и дешевых изданий, оформляемых левой пяткой).
Дело, разумеется, не только в материальной и связанной с этим денежной стороне вопроса. Падение книги происходит не в реальности, а в алармистском сознании — потому что это же сознание усвоило из прошлого положение о том, что книга стоит на некоей высоте, что ей нужно поклоняться; короче говоря, что книга — это фетиш, а не такая вещь, в которой на бумаге с двух сторон напечатаны слова. Я в отношениях с книгами познал всякие стороны, по-разному себя с ними вел, и общение с книгами как с рабочими инструментами, деталями другого, большего рабочего инструмента — библиотеки — показалось мне наиболее продуктивным. Я сам замечаю, как уже-не-новые медиа отжирают время, которое можно было потратить на чтение книги, — с другой стороны, можно и отношения с этими медиа помыслить как большое чтение, совершающее в голове примерно ту же работу.
Я не уверен, что ярмарки, статьи, конференции и прочее стоит так уж ругать: они обслуживают индустрию, но, за исключением, наверное, самых крупных мейджоров, участники этой индустрии не забывают, что пришли в нее, потому что когда-то полюбили читать. Количество отвратительных компромиссов, которые требуются, чтобы в этой индустрии оставаться, ужасно, но требует этих компромиссов не сама индустрия, а ненавидящая ее политика. Премии, впрочем, другое дело: вокруг них и внутри них много неадкеватного, болезненного, смехотворного. В обстоятельствах войны они вообще не слишком уместны — даже как рассадник информации, которым премия, по идее, и должна быть. Пришло время других рассадников, а какими они должны быть, никто не придумал — точнее, придумали тиктокеры, но и они, видимо, скоро институционализируются. Так что не исключено, что на самом деле наступает время скрывать книжечки, читать все про себя, мотать только на свой внутренний ус. И тогда они не зря будут напечатаны. Другое дело, что человек слаб, — говорю, судя по себе, — и все равно будет участвовать в круговороте книжной индустрии, пока видит в этом какой-то смысл, от «узнать, что нового» до «получить гонорар».
|
А. Б.: Ха-ха-ха! Поистине замечательное суждение: «наступает время скрывать книжечки, читать все про себя, мотать только на свой внутренний ус... Другое дело, что человек слаб, — говорю, судя по себе, — и все равно будет участвовать в круговороте книжной индустрии, пока видит в этом какой-то смысл, от „узнать, что нового“ до „получить гонорар“». Это скорее двойственное, чем противоречивое высказывание обнажает все могучее лицемерие, а заодно и всю колоссальную импотенцию участника литературного процесса.
Для чего нужно «скрывать книжечки» и «мотать только на свой ус»? Очевидно, для того чтобы усвоить некоторые истины, способные сделать тебя несговорчивым, неуживчивым, независимым, способным противостоять культурной индустрии, которая является неотъемлемой частью статус-кво, то есть социополитического континуума, ведущего войны, унижающего, порабощающего, и прочая, и прочая. Так — в отстранении и уходе — возникают фигура и жест сопротивления, а заодно и настоящее, живое слово, будь то проза или поэзия. Ну а «человеческое, слишком человеческое» желание «узнать, что нового» и «получить гонорар» неизбежно убивает всякое поползновение к свободе и ясности. Так что мы тут оказывается в тупике и сдаем все позиции.
Сошлюсь на свой потешный опыт пребывания в культурной среде: в 1990-е я оказался в кругу московских художников, идиотически полагая, что там творится что-то настоящее — «веселая наука» и эксперимент освобождения. Оказалось, все наоборот: там царило одно бешеное желание вписаться в господствующий порядок вещей, в механизмы международной системы арт-бизнеса. Я взбунтовался на свой инфантильный лад и оказался в полной изоляции. Ну и хорошо: это помогло… А теперь — спустя много лет после того приключения — я узнал мир российской словесности с ее издательствами и авторами, органами и ритуалами. Оказалось, все то же самое — эстетическая машина приручения. Но ведь Делёз ясно и образно сказал: книга есть несовершенный, но необходимый инструмент, который ты открываешь для себя и затыкаешь за пояс, чтобы он был поближе к тебе и ты помнил о нем телом и душой, совершая свой побег из аппаратов контроля. То есть книга в этом понимании — мануал, руководство к уходу и сопротивлению. Вот как нужно учиться читать и писать: не функционально, но потенциально, не вписываясь в наличные практики, а высвобождаясь из них, не утверждая свое «я» или авторство, а избегая их, не застолбевая свое место, а пребывая вне его. И если философу действительно пристало философствовать молотом, то поэту — ходить смолоду по местам непрополотым. Короче, писать так, как умели писать непокорившиеся мертвые.
Л. О.: Я не хочу лицемерить и отвечать, подстраиваясь под твои мысли, — говорить изнутри кого-то, кем я не являюсь. Я участвую в этой индустрии, потому что вижу в этом смысл. Тебе вольно считать это импотенцией. Зная кое-что об истории литературы, я знаю и то, что мертвые в разное время так или иначе были захвачены книжной сансарой, — кого-то она выкинула далеко на обочину, кто-то послал ее к чертям, кто-то прекрасно в ней до конца жизни обретался и тем не менее создал великие тексты. Делёз, я полагаю, подписывал договоры с издательствами PUF и Minuit, а Вагинов — с «Издательством писателей». Мы можем ни с кем не подписывать договоров, а выставить текст в интернет, и пускай он там себе живет. Но полагать, что все, кто работает в издательском деле, — это такая антиромантическая грязь под подошвами, мне кажется отвратительным. Это дело на самом деле довольно маленькое. В нем не хватает рук. В некоторых любимых мной издательствах все занимаются всем. Пишущий стихи часто одновременно редактирует и что-нибудь преподает, а может и сочинять какие-нибудь гострайтерские книжки для заработка. Ужасно это, ад? Наверное. Отвернуться от этого человека? Нет, я, будучи таким человеком, зная и любя таких людей, сам отвернусь от того, кто будет смотреть на них кривя губу.
А. Б.: Дело в том, что поэтическое послание Вагинова или философский выпад Делёза идут против культурной индустрии. Это и есть самое важное — слово и жест сопротивления. Издательства могут быть плохими или хорошими, дружескими или враждебными, конформистскими или совершенно шкурными. Это так называемая наличная действительность. Но помимо нее и поверх нее есть высшая реальность жеста и высказывания, то есть ясность и точность поэта и мыслителя. И Вагинов, и Делёз отдавали себе отчет в том положении, в котором они оказались соответственно в советском Ленинграде с его книжной промышленностью и в парижском производстве дискурсов. Но они точно и ясно сказали о том, что считали правдой и возможным выходом. Кстати, рядом с Вагиновым был Введенский, который уже не мог печататься. А рядом с Делёзом был Дебор, который наотрез отказался участвовать. Это разные позиции, но они совпадают в одной точке: необходимости ухода и сопротивления статус-кво.
Здесь встает важный вопрос — уже не столько писательский, сколько читательский: как читать книгу того или иного автора, как ее понимать и жить с этим прочтением. Если уж вспоминать Сократа и древних, то стоит заметить, что для них философия и поэзия были жизненной силой и непосредственным руководством к действию. Поэт должен не только писать стихи, но и существовать поэтически, а философу пристало жить в соответствии со своей мыслью. То, что этому препятствуют государство и власть, ясно дураку, но тело и мысль как раз и даны, чтобы преодолевать препятствия. Книга, если вернуться к нашей исходной точке, — это один из лучших, хотя и несовершенных способов открывать иные горизонты бытия вопреки насилию и контролю. Но сейчас мы оказались в такой ситуации, когда «шум времени» — механизмы власти и пропаганды — убивают способность к подлинному чтению. Читать можно все — и при этом ничего не понимать и не сметь. Это и есть проект нынешней культурной индустрии: тотальный конфуз массы потребителей. И пусть какие-нибудь глупцы-писатели тешат себя надеждой, что их будут читать через пятьдесят или сто лет. Какое человечество будет их читать? И для чего?
|
Л. О.: Разумеется, это так (я про первую часть твоей реплики). И давай обратимся к читательскому опыту. Кто и кого будет читать через сто лет — вопрос открытый: может быть, книги будут загружаться сразу в мозг и там как-то помимо нашего разумения обрабатываться (они ведь и сейчас обрабатываются помимо нашего разумения, мы не знаем, как мозг их раскладывает по полочкам и решает, что выбросить, а что оставить). Вопрос, почему именно сейчас возникла ситуация, когда люди читают, но ничего не понимают, вверженные в это состояние культурной индустрией, — та ситуация, которую ты постулируешь (я в ее релевантности не убежден, но понимаю, что она постулируется не из простого алармизма, а из вполне разделяемого мной ощущения, что все идет куда-то тотально не туда). Чем эта ситуация вызвана — перепроизводством? Но и людей тоже становится все больше. Что, собственно, нам от книги нужно — и чего она нам (больше) не дает?
А. Б.: Та ситуация с книгами, их авторами и читателями, о которой мы пытаемся говорить, возникла не сегодня и не вчера. Еще футуристы и дадаисты заметили, что книге, как она существовала столетиями, пришел конец. Почему? А потому, что сам язык претерпел страшную катастрофу. В массовом обществе, в условиях перманентной мировой войны и властной манипуляции, язык стал добычей информации, превратился в орудие пропаганды и журналистики. Тот же Карл Краус обвинял журналистов и писателей в использовании языка как средства, которым, по их мнению, они могут «овладеть», вместо того, чтобы видеть в нем цель и «служить» ей. Ключевой задачей Крауса было «дежурнализировать» своего читателя и научить его пониманию сути немецкого языка, когда письменное слово воспринимается как естественное воплощение мысли, а не как социальная оболочка мнения. Так что нынешний книжный «кризис» не очень-то нынешний. Но есть два чудесных высказывания, отвечающих на вопросы «что нам от книги нужно» и «чего она не дает». Первое принадлежит Роберту Музилю: «Я снова сидел часами, читая, как ребенок, чьи ноги не могут достать до пола. Наши головы крайне неустойчивы или торчат из ничего; мы к этому привыкли, потому что у нас под ногами есть что-то твердое. Но детство — это отсутствие уверенности в себе, и вместо хватательных клещей, как во взрослой жизни, у нас мягкие фланелевые руки, поэтому я сижу перед книгой, словно плыву по космосу на маленьком листе бумаги с буквами. Честно говоря, я больше не могу и не хочу дотянуться ногами до пола под столом». А вот второе высказывание — Роберта Вальзера: «Может быть, люди снова начнут думать самостоятельно? Под этим я понимаю подлинное, оригинальное мышление без поддержки со стороны. Когда я читаю книги, написанные мыслящими людьми, они вдохновляют меня на размышления, но в то же время предлагают категории, ограничивающие мою свободу. Книга стоит между человеком и журчащей рекой Гераклита. Возможно, когда-нибудь в будущем между людьми и течением жизни не будет ничего, и род людской станет мокрым и восхитительным».
Л. О.: Высказывание Вальзера, по-моему, сводится к трюизму — восходящему к уже упомянутым ламентациям Платона. А вот высказывание Музиля в самом деле дивное, на мой слух созвучное Набокову. Оно апеллирует к непосредственному восприятию — не испорченному интерпретацией и критическим зудом, требующим все поставить в контекст. К чтению как феноменологическому опыту. И здесь, мне кажется, книга пока может отстоять свои позиции, хотя и катастрофа языка — или просто длящееся его, всегда в модерную эпоху травматическое, преобразование, и профанация письма («фельетонная эпоха», которую предсказывал Гессе), и конкуренция десятков мелькающих медиа — наносит этим позициям существенные удары. Ведь никто не рождается, прочитав в утробе всю мировую литературу. Каждому человеку нужно стоять с этим ситом, улавливающим прошлый опыт, заново, в своих условиях. Дети читают особым образом, с книгой вступают в тесные физические отношения; полюбившие читать в детстве из этих отношений, собственно, и не вылезают. Последние почти 13 лет я занят чтением вслух на ночь и не только на ночь своим детям — особенно старшему сыну. Это мне очень многое объяснило о литературе, чего я не понимал, учась в университете, аспирантуре, сочиняя научные и критические статьи. И то, как текст произносится, ложится на язык, как какие-то вещи, по которым глаз скользит, вслух не получается заболтать, и довольно часто это досадно; и то, как проза вообще поверяется чтением вслух — немало твердынь моего детского опыта пало в моих глазах, когда я принялся их предлагать своим детям; и, конечно, то, как ребенок эти тексты воспринимает, на каких местах у него загораются глаза и он просит почитать еще, а на каких он отключается.
Короче говоря, вот этот непосредственный контакт с текстом, когда ты не знаешь, к чему идет дело (но можешь угадать), он невероятно ценен и действительно в критике зачастую забалтывается, хотя, например, Барт постоянно нас к нему возвращает. И когда мы говорим о футуристах, то не нужно забывать, что они как раз говорили о самовитом слове и дали его, в том числе в детских книгах, пусть и облитым идеологической кислотой, невероятно объемным, ощутительным. И обэриуты после них пошли по этому пути еще дальше. И эти тексты живут, мы продолжаем с ними разговаривать; и вообще перед нами бесконечное множество вещей, которые мы еще и в глаза не видели или толком не прочитали. Разве это не скрашивает наш пессимизм?
|
А. Б.: У меня нет ни пессимизма, ни оптимизма в отношении книги. Как однажды сказал Фуко: «Сдержим же слезы». Речь, на мой взгляд, идет о другом: о том, что книга может и должна стать тем, чем она и была для отдельных людей и целых сообществ на протяжении столетий, и о чем точно сказал Мейстер Экхарт: «Книги — это мудрецы, которые направляют заблудших; библиотека — это аптека, где можно найти самые ценные лекарства». То есть книга — это не то, что читаешь сегодня, а завтра выбрасываешь в мусорную корзину или просто забываешь, а часть ежедневных мыслей и поступков; то, чем ты живешь и что делает тебя живым и непослушным. Для такого чтения нужен прежде всего настоящий читатель, способный найти своих авторов, которым он верит и которые открывают ему иные миры и возможность иной жизни. Так, кстати, понимали книгу русские и не русские читатели Достоевского и Толстого, Чехова и Шаламова. В русской читательской традиции были по-настоящему одержимые люди, заставляющие вспомнить протопопа Аввакума — неистового читателя Евангелия, или Леона Богданова — сокровенного читателя Хлебникова. Найти свои книги и жить с ними — это может оказаться делом целой жизни. И самое главное: подлинное чтение делает тебя неуправляемым, несогласным, отвергающим то, что навязывают аппараты культурного воспроизводства. Книга отлучает тебя от потребительского отношения к культуре. Книга — не только лекарство и руководство, но и опасность: как для тебя, так и для общества согласных. В сущности, книга, как это случалось еще в советское время, выбрасывает тебя из социума в подполье, где просыпаются воображение, память и способность к сопротивлению. И вот тогда начинается подлинное приключение — твое и книги.
Настоящие писатели не пишут книги, чтобы их читали толпы или литературные тусовки. Книга, которую так прочитали, — мертвая книга. А живая книга — та, что оказывается в руках непослушного паломника на его рискованном пути к очагам (или реке, как у Вальзера) жизни.
Л. О.: Со всем этим не поспоришь — другое дело, что в таком изложении подлинное чтение звучит как нечто очень редко встречающееся; я же думаю, что этот опыт принципиально доступен всем, кто даст себе труд вчитаться в то, что написано. Мне вполне понятно отношение к книге как к живому существу (я скучаю по своим оставленным в России книгам как по живым существам), но я при этом не стал бы говорить, что книга что-то должна. Пусть будет любовь и не будет принуждения. Одна из двух пословиц, которые в моей жизни не раз доказывали свою справедливость, — «У книг своя судьба»; то есть они способны попадаться нужному человеку, десятилетиями ждать на какой-нибудь магазинной или библиотечной полке, менять хозяев. Еще они могут раскрываться на единственно нужном месте — поэтому гадание по книгам кажется мне проявлением доверия к этой их способности. Ну и, наверное, читатель, о котором ты говоришь, — настоящий читатель — это тот, кто перечитывает. Поэтому я предлагаю напоследок поговорить о читательских практиках: как обращение с книгой как с артефактом способствует или мешает чтению? Что нам дают идиосинкразии читателя, что можно сказать о книжном собирательстве, о разных стереотипах («в доме должна быть библиотека», «каждый культурный человек обязан прочитать то-то и то-то»)? Есть известный список «неотъемлемых прав читателя» в изложении Даниэля Пеннака — постоянные отсылки к нему, по-моему, превратили его в китч, но они тоже что-то сообщают о том читателе, который не раб представлений о книге как обязаловке, а человек, завороженный книжностью во всех ее проявлениях.
А. Б.: Кто-то сказал, что существует два вида писателей: те, у которых форма и содержание соотносятся как тело и душа, и те, у которых форма и содержание соотносятся как тело и одежда. Я думаю, это высказывание применимо и к читателям. Есть читатели, наряжающие себя в книги в зависимости от моды на них и демонстрирующие свои новые шмотки при первом удобном случае. Это исправные потребители: иногда они собирают отличные библиотеки, которыми могут похвастаться. Есть профессиональные читатели, которым нужно писать рецензии. Есть читатели-целевики, ищущие в книгах решение своих проблем. А есть совсем другие — бесшабашные и бескорыстные читатели, обалдевающие от одной прочитанной книжицы и превращающие себя с ее помощью в нечто не от мира сего. Мне такие по душе.
Что это значит: «человек, завороженный книжностью во всех ее проявлениях»? Может, это когда ты по-детски влюбляешься в какую-то книгу с ее обложкой, иллюстрациями и повествованием — и переселяешься в нее, создавая себе параллельную жизнь? Делёз называл это становлением. Или это когда ты читаешь любимую книгу вслух, как это делали в древности, чтобы не слышать отвратительный шум вокруг? А еще можно носить книгу в кармане и стать с ней одним существом. Но мне больше всего нравятся читатели, которые читают только названия книг, а все остальное додумывают в своем воображении. По-моему, это восхитительно.
У Сартра есть замечательная книжица — «Слова». Это про то, как трудно стать настоящим читателем, а тем более писателем. Потому что вокруг и в самом тебе слишком много лжи и наносной болтовни. Нужно продираться сквозь них к своему родному языку, а точнее — к косноязычию. Тут нужна вера, которая предшествует знанию. Беда тем, кто из книги делает знание. Вера — вот чему учит веселая наука чтения. Книга будет смеяться вместе с тобой, когда ты найдешь к ней ключ.