«Насколько я люблю Фолкнера, настолько терпеть не могу Сэлинджера»
Читательская биография слависта Гуидо Карпи
«Нил Гейман — единственный постмодернист, которого я воспринимаю»
Не думаю, что детский круг чтения в Италии сильно отличается от русского. Первое мое отчетливое воспоминание относится примерно к трехлетнему возрасту: мама читала мне сказки на сон грядущий. Это может показаться странным, но у нас было много русских сказок, я понял это задним числом, потому что узнал потом русские имена. И сюжеты были похожи на те, что я читал взрослым, когда уже профессионально занимался русской сказкой. Мои родители принадлежали к совершенно другому поколению и плохо разбирались в том, что можно давать ребенку и чего не стоит — этим и определялся круг моего чтения в детстве и ранней молодости. Они были людьми другой культуры. Я помню, мама начинала читать, и в определенный момент ее голос терял уверенность, потому что она задумывалась, стоит ли продолжать. Там были ведьмы, упыри, мертвецы; русские сказки отпечатались в моей памяти: там был четкий порядок отношений между живыми и мертвыми. После смерти человеку легко стать упырем, русалкой — помню одну квазирелигиозную сказку на основе Евангелий, понятых особым образом, там святой Петр и Христос встречаются с сатаной, который дает им какой-то алкоголь, наверное, водку. Они напиваются, хотят еще, но дьявол уже ищет возмездия. Христос говорит: дай нам еще выпить, а я тебе — все души людей, умерших от лишних возлияний. Это было очень страшно и звучало не по-детски. Еще были украинские сказки — когда я читал раннего Гоголя, вспомнил об этом. Потом я начал читать комиксы — этот вид литературы, совершенно незнакомый русскому ребенку, у нас был основополагающим. В Италии очень развита культура комиксов, причем не только для детей. Есть вещи детские, вроде Микки Мауса, есть промежуточные. У нас был популярен в 1960–1980-х годах Уго Пратт с циклом рассказов о приключениях моряка Корто Мальтезе, все дети его знали. Его комиксы не совсем детские, в них есть оккультные и эротические намеки — ребенок может читать такое, хотя поймет, конечно, не все. Мальтезе очень изысканный автор, он был мастером своего дела.
В середине 1970-х годов в Италии выходил журнал комиксов «Linus». Родители думали, что это детское чтение, но на самом деле внутри там чего только не было. В то время царствовала хипповская культура, и в журнале публиковали психоделические и эротические комиксы, абсолютно непригодные для ребенка. Я это читал, когда мне было восемь-десять лет. Помню цикл комиксов нашего очень талантливого писателя Гуидо Крепакса под названием «Valentina», основанных на сексуальных извращениях и болезненной атмосфере. До сих пор помню каждую страницу научно-фантастических комиксов, автором которых был француз Филипп Дрюлье, — «Фантастические путешествия Лона Слоана». Это стопроцентная психоделия, но родители даже не подозревали, что я такое читал.
Комиксы действительно важный пласт для любого итальянского читающего подростка, там можно выбрать что угодно (хотя не все, конечно, начинали так экстремально, как я). Некоторые комиксы произвели на меня большое впечатление уже во взрослом возрасте. Будучи уже вполне зрелым человеком, я зачитывался двумя комиксами, английского и американского писателей. Один называется «Посланник ада» — рассказы об английском сыщике-сатанисте. Для меня Лондон как планета Марс, никогда там не был и всегда думал, что его жители ходят с зонтиками, в сюртуках, все очень корректные, а эта серия показывает какой-то иной Лондон, подспудный — алкоголиков, сутенеров, и все это смешано с жуткой эзотерикой. Еще он с очень сильным социальным налетом, это левый комикс. Еще больше на меня повлиял «Песочный человек», тоже эзотерический комикс Нила Геймана, ставшего теперь очень модным благодаря роману «Американские боги» и другим книгам, но двадцать пять лет назад он был известен как автор серии комиксов. Гейман — единственный постмодернист, которого я воспринимаю, потому что в целом они мне кажутся достаточно скучными. Я познакомился с этими комиксами где-то лет в двадцать пять.
Я до сих пор читаю все то, что читал раньше, в том числе «Корто Мальтезе», жуткие комиксы, которые мне совершенно зря давала читать мама. Могу назвать еще одного очень талантливого автора комиксов, Андреа Пациенца. Это явление, выходящее за рамки комиксов и вообще молодежной культуры. Он человек очень сложной судьбы: писал в конце 1970-х и в первой половине 1980-х, был наркоманом, умер молодым. Пациенца — наш «проклятый поэт». Если кто-то в Италии ориентируется на темные стороны существования, читает Рембо, слушает Курта Кобейна, этот автор, действительно очень сильный, обязательно будет у него в почете. К сожалению, вне Италии он совершенно неизвестен. Если бы меня спросили, какой самый значимый итальянский писатель последних пятидесяти лет, я бы сказал — Андреа Пациенца, а не Умберто Эко. Я прочитал «Имя розы»: ну да, интересно, соединение криминального романа со Средневековьем, но это все слишком умозрительно и высосано из пальца. А Андреа Пациенца — это да. Если бы кто-то взялся перевести и издать его, это был бы подвиг. Он значит для нашего поколения в тысячу раз больше, чем Умберто Эко.
«В то время было принято считать, что „Властелин колец” — профашистская книга»
Если вернуться к полноценному fiction, то одной из самых важных для меня книг в возрасте одиннадцати-двенадцати лет стал «Властелин колец». Сейчас он очень популярен, а тогда это было нишевое чтение, не все знали, что это такое. Я наткнулся на Толкина в книжном магазине, обложка была очень красочной, мне стало интересно — я начал читать и впитал в себя этот мир. Но теперь уже я столкнулся с противодействием моего отца, убежденного коммуниста. В то время было принято считать, что «Властелин колец» — профашистская книга. Отец всячески пытался ее спрятать от меня, ругал, и, конечно, чем больше он это делал, тем больше я интересовался ею.
Чуть раньше, когда мне было лет десять, я попал под машину и лежал в больнице. Мама хотела меня развлечь и выбрала для этого невинную, как ей казалось, научно-фантастическую книгу — «Марсианские хроники» Брэдбери. Пожалуй, это первая взрослая книга, которая меня действительно очень впечатлила: особенно идея встречи с совершенно иным и то, что этот иной может воспринимать тебя как что-то страшное. Читая Брэдбери, мама тоже иногда прерывалась, потому что задумывалась, нужно ли это десятилетнему ребенку — родители то и дело выбирали не то. На самом деле это было как раз то, что нужно, — эта книга повлияла на мое мировоззрение. Особенно впечатлил рассказ, в котором земляне попадают в сумасшедший дом. Там все телепаты и сумасшедшие, они могут навязывать другим свои видения. Хоть ты и говоришь о наглядных вещах, все равно будешь оставаться сумасшедшим. Землян в конце концов убивают как неизлечимо больных, потому что они бредят о каком-то космическом корабле, он виден на холме, но все думают, что они заражают окружающих своим сумасшествием. Я не спал по ночам, думая, как можно заражать своим безумием других.
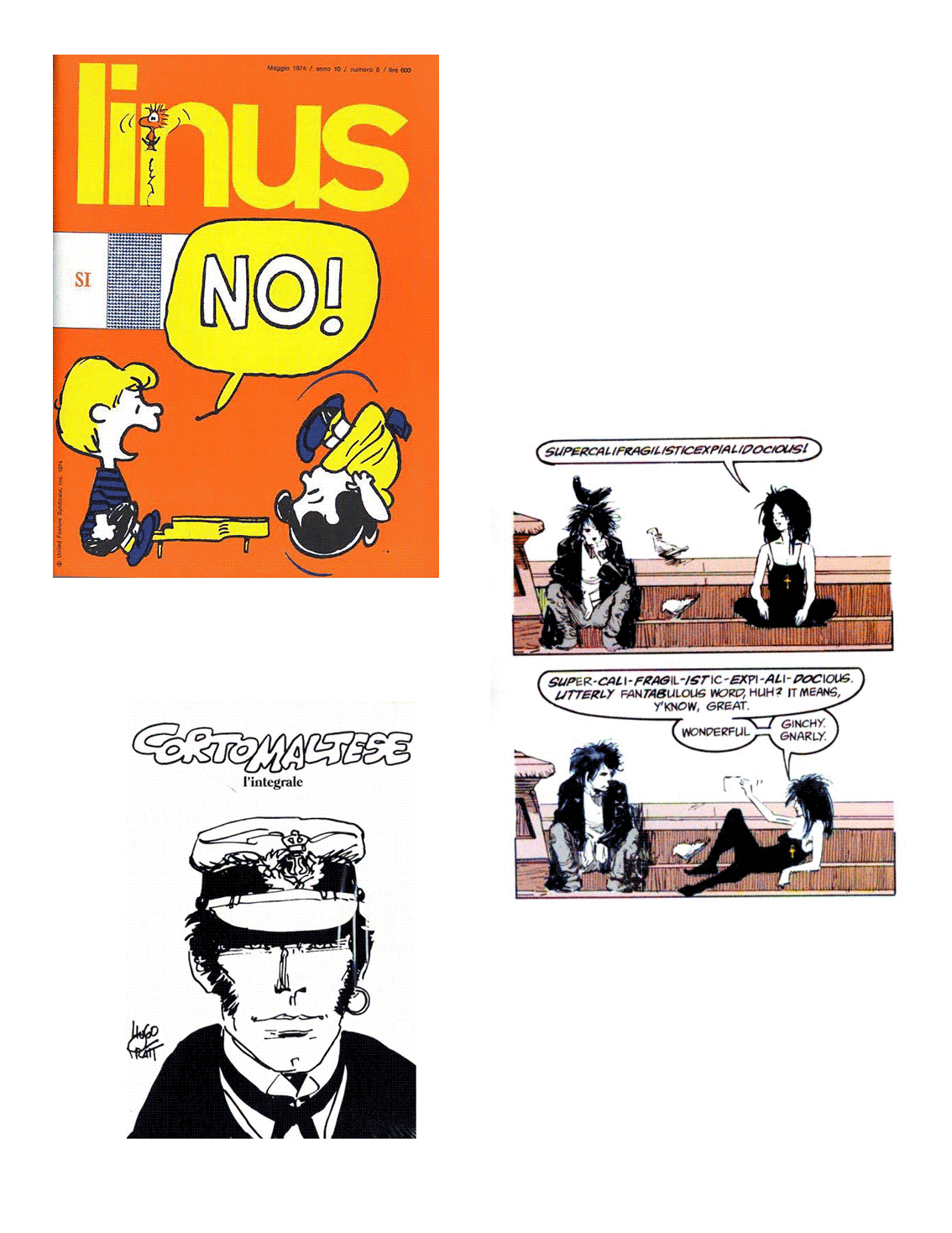
Еще на мое чтение повлиял дедушка со стороны отца, он жил в Больцано, итало-немецком городе на севере. Он был видным масоном мистического толка. В бытовом окружении он ничем не выделялся — гулял, любил поесть, выпить, рассказывать смешные истории, — но в то же время был масоном и у него была библиотека оккультной литературы. В ней находились книги по астрологии, но не те вещи, которые продают сейчас на улице, а старые издания, карты XIX века, сочинения мистического толка о великих людях. Например, у него было много книг о Гарибальди, который тоже входил в масонскую ложу. Я сидел в этой библиотеке, очень холодной, потому что эту комнату зимой не обогревали (дедушка не любил лишних трат), и читал о Наполеоне, Гарибальди, хиромантах. Это было действительно очень весело — с шести до шестнадцати лет. А потом дедушка и бабушка умерли, и я не знаю, куда пропала эта по-своему уникальная библиотека.
Кроме того, у меня была тетя-коммунистка, очень убежденная, но полуграмотная: она не знала русской литературы, зато любила поэму «Двенадцать» на итальянском языке, уважала Блока как первого певца Октябрьской революции. Тетка подарила мне томик Блока лет в шестнадцать. Пожалуй, это моя первая русская книжка, кроме сказок и кое-кого из писателей 1920-х годов (я не воспринимал их как что-то русское). И хотя тетя подарила мне книгу из-за «Двенадцати», я открыл ее и сразу наткнулся на цикл «Стихи о Прекрасной даме» — и это был прорыв. Когда я впервые прочитал «Вхожу я в темные храмы, / Совершаю бедный обряд. / Там жду я Прекрасной Дамы / В мерцаньи красных лампад», меня это воодушевило до такой степени, что Блок стал моим любимым поэтом на всю жизнь, хотя тогда я многого, конечно, не понимал. Поэма «Двенадцать» меня не очень тронула, зато вдохновили ранние мистические стихи Блока. Я вспоминаю об этом, когда сталкиваюсь с какой-нибудь мрачновато-мистической фигурой. Например, когда я впервые слушал Курта Кобейна, то сразу вспомнил эти стихи Блока, его ореол жертвенности и гибели. Он сразу настраивает внутренние струны — таково было мое первое знакомство с русской литературой. Чехов, Толстой, Достоевский — я, конечно, читал это все потом, очень заинтересовался, но все это не вошло так сильно в глубь меня, ведь невинность мы теряем только один раз. У меня это было с Рембо, Ницше, с «Властелином колец», неуместными для ребенка комиксами и, пожалуй, с Блоком.
«Не могу читать Довлатова, не вспоминая о Фолкнере»
Первое мое более-менее взрослое чтение — «Сумасшедший корабль» Рембо, «Так говорил Заратустра» Ницше и «Гимны ночи» Новалиса. Я читал это, когда мне было четырнадцать-пятнадцать лет, бредил и окончательно перестал быть нормальным человеком. Отец злился и говорил, что надо читать Горького. Его я тоже читал, но сейчас об этом вспоминать не так интересно. Нет, я очень люблю этих троих: Ницше, Рембо и Новалиса.
Мне сложно вспомнить литературу, которую мы изучали в средней школе. Помню, что в средних классах в школе была такая книжная полка, где располагались рекомендованные к чтению книги. Следовало брать их, читать, а потом рассказывать о впечатлениях. Там стояли назидательные романы о партизанах времен Второй мировой войны, о демократических традициях итальянского народа — тогда школа была очень левацкая. «Чипполино», кто-то из русских (может быть, «Железный поток» на итальянском языке), «Христос остановился в Эболи» Карло Леви, «Человек ли это?» Примо Леви, «Дневник Анны Франк» — одним словом, культурное левацкое достояние. Я над этим не иронизирую, это все, наверное, подсознательно на меня повлияло, и левые идеалы я по-прежнему разделяю. Но если говорить о вещах, которые меня впечатлили в том возрасте, то нет.
В школе нам давали читать мишуру XIX века типа «Обрученных» Алессандро Мандзони, но никто никогда не воспринимал это всерьез. Нам уже тогда было ясно, что с XVIII века итальянская литература стала откровенно вторичной, там нельзя найти ничего интересного. В XX веке кое-что яркое, конечно, есть. Я могу пару имен назвать. Пазолини — хотя его не давали в школе, потому что он считался скабрезным. Итало Кальвино — мы читали в основном ранние, более реалистические произведения вроде «Тропинки паучьих гнезд», которая написана под сильным влиянием русской литературы 1920-х годов о Гражданской войне, хорошее произведение. Потом, когда я стал взрослее, мне понравились его поздние, абстрактные вещи типа Le città invisibili — «Воображаемые города». По-моему, это мировой шедевр. Или Ti con zero — сборник его умозрительных, квазинаучных рассказов, тонких и холодноватых.
Параллельно было другое важное чтение — американские писатели. Самый ранний — Джек Лондон: этот налет авантюризма, истории о людях, которые испытывают себя в экстремальных ситуациях на Диком Западе, на меня очень повлияли, я любил и уважал Джека Лондона. Еще мне очень нравится Фолкнер — больше, чем Хемингуэй. Хемингуэй мне нравится как личность, в чем-то я даже ему подражаю, но как писателя люблю больше Фолкнера. Мне нравится его интерес к самым мрачным сторонам провинциальной жизни: кажется, что там все нормально, но на самом деле никто не является тем, кем кажется. Поскольку я родился и жил в такой провинции, я это прекрасно понимал. Вашу, русскую, литературу 1970-х годов я читал на фоне Фолкнера: я не могу читать Довлатова, не вспоминая об этом американском писателе. Мне кажется, они близки — эта горькая, страшная ирония, когда человек вроде бы смеется, но на самом деле все страшно и достаточно подло. Какие-то искривления, у всех есть физическая деформация. Насколько я люблю Фолкнера, настолько терпеть не могу Сэлинджера. Когда мне дали почитать гадкий роман о балбесах среднего класса, которые разговаривают о девушках, «Над пропастью во ржи», он стал одним из самых ненавистных мне писателей. Это мелкая буржуазия на все сто — просто не могу читать.
«Русский язык уже кое-как выучен, почему бы не стать филологом-русистом»
Когда мне было тринадцать лет, я попал в пионерский лагерь в составе молодежной международной делегации. Мой отец, как я уже говорил, был истинным коммунистом, и, как только он узнал, что в советском посольстве подбирают молодых людей для делегации, он сразу выскочил и сказал: «Моего балбеса берите!». Так я попал в «Артек». Я, конечно, тогда по-русски еще не говорил, но в таком возрасте очень просто найти общий язык со сверстниками. Так что я приобрел многих друзей, впервые влюбился — в девушку Машу из Петропавловска-Камчатского. Может быть, она, прочитав это интервью, вспомнит меня добрым словом. Когда я вернулся в Италию, я хотел поддерживать отношения с новыми друзьями, но без знания языка это было невозможно — пришлось потихоньку изучать русский язык в свободное время. Я всегда хотел стать филологом, заниматься иностранной литературой, потому что итальянская литература мне казалась скучной, и еще хотелось путешествовать. Вот я и подумал: русский язык уже кое-как выучен, почему бы не стать филологом-русистом. Тем более что речь об эпохе перестройки, Советский Союз тогда был у нас очень популярен: все думали, что из этой страны выйдет что-то необыкновенно хорошее. На самом деле вышло то, что вышло, — лучше, чем ничего. Ну и потом я русскую литературу люблю, конечно, — ощущаю себя уже частью этой культуры, этой жизни, я чувствую себя русским наполовину.
«У нас есть свой итальянско-русский писатель-бандит — Николай Лилин»
В Италии переводят довольно много русской литературы, но все это держится на грантах, платят — переводят, а сами книги не пользуются большой популярностью. Единственный современный русский писатель, у которого есть своя ниша, — Пелевин, все остальные действительно на любителя, их книги издаются за счет грантов. Ни одно итальянское издательство не рискнет выпустить книгу Сорокина. Достаточно популярен Довлатов, его выпускает солидное издательство в хороших переводах. Довлатова можно читать без особенного знания контекста. Конечно, ты понимаешь только одну сторону дела, но это и так занимательно. Есть определенный круг читателей у Венедикта Ерофеева: «Москва — Петушки» довольно известное в Италии произведение.

Николай Лилин
Фото: tattoolife.com
У нас сейчас Россия в культурном плане отождествляется с образом брутального и сентиментального бандита. Это совокупность черт, почерпнутых отчасти из литературы, отчасти из быта, отчасти из кино (фильм «Брат»), но показательно, что мы не читаем ваших писателей, которые пишут об этом, а они есть, нетрудно их найти. Например, ранний Захар Прилепин писал о том, какими они были прекрасными и жестокими. Прилепин издается по-итальянски, но не пользуется большой популярностью. У нас есть свой итальянско-русский писатель-бандит — Николай Лилин. Это действительно очень интересное явление. Он начинал как гопник из Приднестровья, о нем очень мало достоверной информации — наверное, он сидел, потом перебрался в Италию и стал татуировщиком, специализирующимся на квазимафиозных татуировках. Впоследствии его раскопало солидное издательство Einaudi, а это не хухры-мухры, они издают Данте, но им тоже надо что-то есть. И они сделали из Лилина литературную сенсацию. Я не знаю, сам ли он написал эти тексты, но внешность Лилина соответствующая: сразу понятно — русский бандит. Его первое произведение называлось Educazione siberiana — «Сибирское воспитание». Там он рассказывает какие-то небылицы о бандитской субкультуре в России, но опирается на источники 1920-х годов, песни Высоцкого, современный крутяк типа «Охоты на пиранью» или «Антикиллера». Это все собрано, скомпоновано и подано итальянскому читателю. Лилин живет в Турине, пишет на слегка ломаном итальянском языке: читаешь — и сразу чувствуется русский акцент. Не знаю, сам ли он писал свои книги, но они стали литературным событием; сейчас не обойдешься без Лилина, он пишет в крупные газеты на всевозможные темы, ни в коем случае не связанные с русскими бандитами — о глобализации, например. Лилин говорит, что воевал в Чечне, хотя понятно, что если он гражданин Приднестровья, то не мог воевать в Чечне, разве только на стороне боевиков. Но он очень симпатичная фигура, веселая и гротескная. В сравнении с ним Прилепин — девица с бала.
«Влияние Толстого даже мешает мне в жизни»
Если говорить о любимых русских авторах, то первым делом я назову Гоголя. По-моему, это гениальный писатель, мирового уровня. От него происходят все другие писатели, которых я люблю, кроме одного. Мне нравятся писатели с четкой ориентацией на сказ, деформацию языка, сюжета. Я люблю Бабеля, Зощенко, Платонова. Очень люблю «Тихий Дон»: по-моему, это первоклассное произведение, и мне неинтересно, кто его на самом деле написал. Даже если Шолохов не написал ни одной строки, тот факт, что он выкопал такой текст, подал как свой и добился, чтобы эта антисоветская по сути эпопея была напечатана полностью, хоть и с некоторыми неудачными идеологическими вкраплениями, — большой гражданский подвиг. «Тихий Дон» — одно из немногих произведений, приближающихся к «Войне и миру», и к тому же это самый большой роман о любви в русской литературе XX века. «Мастер и Маргарита» отдыхает, там это все несколько условно — я имею в виду части, посвященные любви, другие части гениальные. К сожалению, сегодня этот роман не читается, но я надеюсь, что рано или поздно ему воздадут должное.
Толстой не был последователем Гоголя, но «Война и мир», как сказал бы товарищ Сталин, — «вот это штука!». У Толстого я научился смотреть на мир по-другому: он показывает, как люди думают одно, но независимо от себя самих делают совершенно другое. Они хотят казаться одними, а на самом деле они совершенно другие — такова неискренность, трафаретность, условность общественной жизни. Попадая в общество, мы становимся не теми, кто мы есть, и Толстой показывает это на уровне микростилистики. Влияние Толстого даже мешает мне в жизни. Я вот не могу сидеть на ученом собрании, потому что смотрю на него согласно Толстому: думаю, как бы он это описал, этих людей, их искренние побуждения, их поведение, как это смешно, как это никому не нужно. Или экзамены, например. Когда я пытаюсь объяснить студентам, что представляет собой стиль Толстого, привожу всегда этот пример — экзамен в университете, сессия. Как бы его описал Толстой. В огромном мрачном холодном зале сидят два человека за столом — один постарше, другой помладше. Молодой человек рассказывает человеку постарше все то, что человек постарше рассказывал человеку помладше в течение семестра (конечно, в сжатом виде). В зависимости от того, как точно человек помладше передает человеку постарше то, что тот сказал человеку помладше, человек постарше ставит все более и более высокую отметку. Никто из них не понимает смысла происходящего: человеку постарше платят за то, что он делает это, а человеку помладше нужно показать отметку родителям и получить от них денежное вспоможение. Вот как Толстой бы все это описал. Студенты смотрят на меня и… [изумляются].