«Надо быть сумасшедшим, чтобы все это перевести»
Интервью с сербской исследовательницей русского авангарда Корнелией Ичин
— Решение заниматься филологией появилось в детстве или вы позже к нему пришли?
— Позже, но любовь к русскому языку, к русской литературе у меня была с детства, потому что я ходила в экспериментальную школу и с первого класса занималась русским языком. Потом, когда я училась в математической гимназии, меня очень интересовала физика. Я постоянно металась между своими гуманитарными интересами и естественно-научными. В итоге я решила все поменять и, к разочарованию многих моих преподавателей, не поступила на физический факультет, а выбрала филологию — русский язык и литературу. Так что это, можно сказать, стало моей судьбой.
— А вы много читали в детстве?
— Да, потому что дома была довольно большая библиотека всемирной литературы, и, конечно, в ней были собрания сочинений русских классиков — Достоевского, Толстого и т. д. Достоевским, например, я зачитывалась в возрасте двенадцати-тринадцати лет.
— По-русски?
— Я читала в переводе, по-сербски. В школе мы читали по-русски только отдельные стихотворения, какие-то фрагменты, а уже на филологическом факультете, разумеется, все тексты на русском языке.
— А что входило в круг читательских интересов сербских подростков и студентов в то время?
— В начальной школе (она у нас восьмилетняя) мы читали по программе всемирной литературы: начиная с античной — фрагменты из «Одиссеи» и «Илиады» (в средних классах уже целиком), и дальше «Робинзон Крузо», Диккенс и т. д. В гимназии проходили Беккета, Кафку, Достоевского, Толстого, Пушкина. То есть мы были ознакомлены и с XIX, и с XX веком. В обязательную программу, конечно, входили и наши писатели, югославские.
— Когда вы пошли на филологический факультет, вы точно знали, что будете заниматься именно русской литературой?
— Нет, мне было все интересно. И только на третьем курсе я поняла, что литература — это то, чему я хочу себя посвятить, но четкой уверенности, что меня оставят на факультете и что будет возможность работать в институте, у меня не было. Сугубо литературный интерес появился именно после второго курса. В то время я запоем читала литературоведческие, философские книги, русскую литературу, и, безусловно, меня всегда интересовал культурный контекст.
— Какая была тема вашей дипломной работы ?
— У нас несколько иная система: мы не пишем дипломную работу, а сдаем дипломный экзамен — это такой разговор о языке и литературе, когда задают вопросы по всем курсам, которые ты проходил в течение четырех лет. Но тех, кто хотел заниматься исследованиями, конечно, поощряли. Первое мое студенческое исследование было посвящено Велимиру Хлебникову; я за него даже получила премию Матице сербской, нашего старейшего культурного учреждения, которое существует с 1826 года. Это стало дополнительным стимулом и вдохновило меня на дальнейшую работу, потому что Хлебников всегда был для студентов сложным автором, он одновременно вызывает восторг и отпугивает.
— А чем был обусловлен выбор Хлебникова? Это влияние преподавателя или ваше собственное решение?
— Мы узнавали о нем на лекциях в университете; кроме того, я читала сборник «Понятийник русского авангарда», который издавал профессор Александр Флакер в Загребе, и открыла для себя несколько иной мир. Там публиковались Ханс Гюнтер, Лена Силард, Зара Минц и многие другие — это были очень хорошие исследования, они указывали дорогу. А в первую очередь на меня повлиял мой учитель Миливое Йованович, который тоже занимался авангардом, хотя он интересовался и другими вещами — Достоевским, XX веком, он широко известен как достоевист.
— Миливое Йованович был одним из ведущих специалистов по русскому авангарду, специалистом с мировым именем. Как получилось, что в свободной, но все-таки социалистической Сербии ученые занимались русским авангардом? Была, может быть, какая-то научная связь с русской эмиграцией первой волны, второй волны?
— Авангард — это левое искусство, поэтому никаких запретов не было. В свободном доступе в библиотеках Сербии, Хорватии, то есть бывшей Югославии, находились все западные книги. Например, немецкое репринтное издание Хлебникова Николая Степанова. У нас был русский книжный магазин, в котором по аннотированному каталогу можно было заказать любую книгу, которая вышла в России. С другой стороны, без проблем можно было приобрести русские книги, которые печатались на Западе.
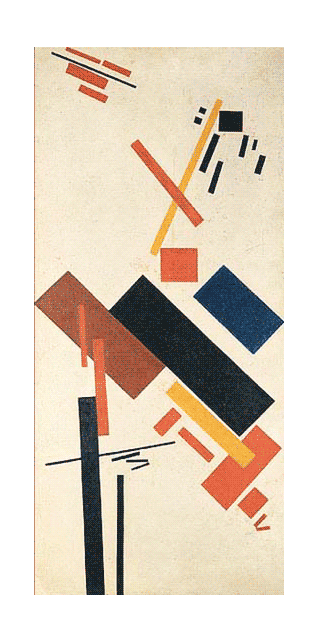 Эмигранты же, которые жили в Сербии, ничего общего не имели с авангардом, потому что это была монархическая эмиграция. И те русские поэты и писатели, которые здесь жили, в первую очередь были ориентированы на традиционную пушкинскую линию в поэзии или, если брать пример из XX века, — на Блока, возможно, на Гумилева, но никакого авангарда там не было.
Эмигранты же, которые жили в Сербии, ничего общего не имели с авангардом, потому что это была монархическая эмиграция. И те русские поэты и писатели, которые здесь жили, в первую очередь были ориентированы на традиционную пушкинскую линию в поэзии или, если брать пример из XX века, — на Блока, возможно, на Гумилева, но никакого авангарда там не было.
В Сербии же работало большое количество русских ученых: Кирилл Тарановский, Никита Толстой, например.
Я еще их застала, когда училась в университете, но уже не профессоров, а просто преподавателей русского языка. Это были потомки русских эмигрантов, которые родились в Югославии. Что же касается ученых, несомненно, самым крупным из филологов был Тарановский. Он у нас преподавал русский язык, не литературу, хотя был всемирно известным литературоведом, стиховедом, но так получилось. Много громких имен было на юридическом факультете — Петр Струве, Александр Соловьев, не говоря уж о других специальностях.
— А вы в первый раз попали в СССР как турист или как ученый?
— Это был 1986 год, начало перестройки, я тогда училась на четвертом курсе, и впервые появилась возможность поехать по программе студенческого обмена. Нас была небольшая группа, восемь человек, мы как раз приехали 7 ноября, к празднику, и до конца января жили в Москве. Помню, стоял жуткий мороз, 38 градусов, а мы были абсолютно к этому не готовы — вот такое боевое крещение. Мы ходили на занятия в МГУ на филологический факультет: там из нас сразу сформировали группу, но никакой пользы от этого не было, потому что мы так занимались и в Белграде. Поэтому мы нечасто посещали университет, ведь главным для нас было общение с ровесниками, коллегами, нам хотелось приобрести навык общения на русском языке. Но тем не менее мы послушали некоторые лекции, нас водили по булгаковским местам.
А после 1987-го я уже регулярно стала приезжать, общалась с поэтами: Владимиром Алейниковым, Сашей Соколовым, людьми этого круга, встретилась с Виктором Кривулиным. Меня водили к Евгению Нутовичу, коллекционеру, где я впервые увидела картины Олега Целкова, Александра Блинкова. Мне давали какие-то рукописи читать для перевода. Все это я запомнила на всю жизнь.
— А как тогда в Югославии воспринимался русский авангард, насколько его знали, ценили?
— Знали, конечно. Во-первых, у нас есть театралы, которые были последователями Мейерхольда, его взгляда на театр. Уже в 1960-е годы наши поэты переводили Хлебникова, правда, по подстрочнику. Первое издание Хлебникова на сербском языке появилось в 1964 году. Потом, в 1981-м, издали «Случаи» Хармса, стихи же его почти не публиковались. В 1984-м вышла книжка Флакера «Русский авангард», и уже регулярно в Загребе стали проводиться конференции, посвященные русскому авангарду. Студенческий культурный центр выпустил книжку Малевича, по-моему, тоже в 1980-е годы: там всего несколько текстов было переведено с русского языка, а большинство — с английского. В Музее современного искусства прошла выставка футуристических книг. Русский авангард всегда привлекал, не могу сказать, что это был широкий интерес, но, конечно, он присутствовал в югославском культурном пространстве.
— После окончания университета вы остались на филологическом факультете, и ваш учитель Миливое Йованович направил вас на исследование авангарда? Или у вас были какие-то другие интересы?
— Я себя никогда не считала каким-то необычайно одаренным человеком и думала, что аспирантура — это только для гениальных. Когда шел дипломный экзамен, мне предложили поступить в аспирантуру, и я решилась на этот шаг. Там такая система: ты сдаешь некоторые экзамены и определяешь себе темы исследований совместно с научным руководителем. Я выбрала Гумилева, потому что к тому времени уже перевела несколько его стихотворений и хотела им заниматься дальше. Гумилеву была посвящена и моя кандидатская диссертация, а потом я ушла в сторону драматургии. Я хотела написать книжку о драматургии Льва Лунца, который был абсолютно забытым автором, но очень, с моей точки зрения, важным для развития театра. Он, действительно, хотя и был молод, показал на примере своих пьес абсолютно разные уровни, разные направления развития драматургии в дальнейшем. И параллельно с этим я писала и переводила тексты об авангарде — литературном и живописном.
Он меня поражал своей свободой и открытостью, тем, как он напрямую всё заявлял, например: «Скажите, откровенно, что вы бы запретили Шекспира, потому что вам это не нужно...». Все эти его постановления в театре, которые были в 1920-е годы, юношеский задор — всё это мне в нем нравилось. Можно говорить о его близости авангарду в смысле свободы эксперимента в пьеске «Обезьяны идут» и, конечно, в антиутопиях.
— Потом наступили времена, когда филология, тем более русская, тем более авангард вообще были никому в Югославии и, наверное, в Сербии не нужны.
— Нет, это не так. Я категорически против таких утверждений. Одно дело — что происходило в стране, и за все это мне стыдно. Но что касается литературы, то интерес к ней и к русской культуре в целом в Сербии был всегда. Русским писателям у нас всегда рады. И если приезжает какая-то труппа театральная из России, это всегда вызывает большой интерес.
— Тем не менее Сербия, наверное, единственная страна, где есть полное собрание сочинений Хармса на национальном языке.
— Надо быть несколько сумасшедшим, чтобы все это перевести.
— И это ваша личная заслуга.
— Просто я хотела, чтобы к столетию Хармса появилось полное собрание сочинений — то, которое делал Сажин, в шести томах. Я подключила к этой работе некоторых своих студентов, аспирантов и одну профессиональную переводчицу. Но всю поэзию перевела я, и не только поэзию, но и большинство текстов. Мне хотелось, чтобы все, кто живет этим, были вместе, поэтому для меня было очень важно, чтобы хоть что-то еще перевели другие мои сотрудники. И мы сделали это: выпустили огромный двухтомник, там две тысячи страниц, и теперь наши имена вместе с Хармсом.
 — А какой тираж был у этой книги?
— А какой тираж был у этой книги?
— Пятьсот или тысяча экземпляров, я точно не помню, а потом, может быть, допечатали.
— А она хорошо продавалась?
— Не знаю, я никогда не интересовалась этим. Ее издал Владимир Меденица, который тоже обожает Хармса и вообще русских авторов, русскую философию. Наверное, хорошо продавалась, потому что Хармса у нас всегда очень любили. Это действительно полное собрание сочинений: помимо художественных текстов, переведены его письма, дневники, записные книжки. Хочу заметить, что пятитомник Малевича тоже переведен полностью.
— Почему вы стали заниматься Зданевичем? Так получилось, что я впервые прочел Ильязда в Белграде. В Югославии я понял, насколько это вообще «балканская» литература.
— Сравнительно недавно появился, буквально два-три месяца назад, перевод «Восхищения» Зданевича, и меня это очень радует, потому что это та книжка, которая, как мне кажется, больше всего связана с Балканами, с этим мировоззрением — это абсолютно наша книжка. Ее перевел мой студент, но он замечательно перевел, потому что он сам поэт, у него богатый язык — что важно для этой книги. А интерес к Зданевичу естественен, потому что он был близким другом Ларионова, Гончаровой, и все, что он делал, — «41 градус», его полиграфические эксперименты, фонетическое письмо, которое он вводит (потому что грузинское письмо фонетическое, как и сербское), его драматическая пенталогия «Питёрка дейстф» — это авангард. Потом, наверное, еще немалую роль сыграло то, что я была в Грузии в 1989 году. Тифлис, Пиросмани, Ле-Дантю, и в первую очередь Илья и Кирилл Зданевичи, все вместе — это на меня повлияло. Но, к сожалению, я долго ждала выхода этой книжки на сербском языке. По-моему, первая конференция по Зданевичу была в Белграде, если я не ошибаюсь, в 2011 году.
— А был ли в Сербии свой авангард?
— Был, но его пытались угробить, и фактически им это удалось. Потому что у нас была довольно консервативная среда, она была просто не подготовлена к этому — достаточно вспомнить, что Белград освободился от турок в 1867 году. И когда появились поэты и художники, которые стали выпускать в 1921 году журнал «Зенит», то на них набросились. Его издавали братья Любомир и Бранко Мицич, которые приехали в Белград из Загреба. Это был интернациональный журнал, авангардный, левый, там публиковались русские, немцы, французы, сербы, хорваты на своих родных языках, это было мультилингвальное издание. Вокруг «Зенита» собрались интересные творческие личности, они организовывали авангардные выставки. Оттуда вышли и наши сюрреалисты — наверное, единственное литературное направление в Югославии, которое по времени совпало с европейским, потому что был прямой контакт с Бретоном. Но нашей среде это было чуждо, и в итоге журнал запретили, последний номер вышел в 1926 году.
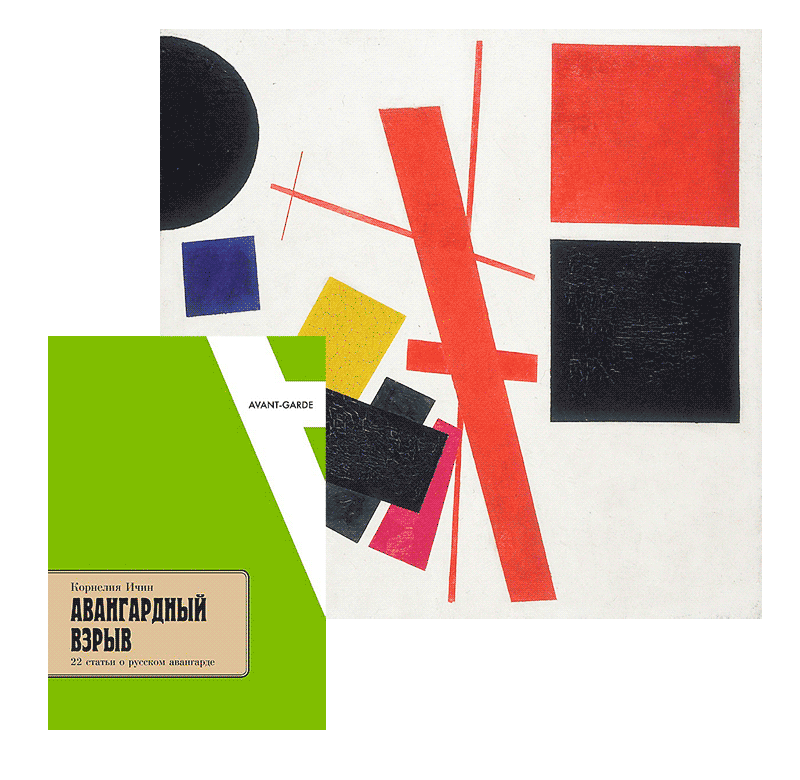 — А после войны была совершенно консервативная вытоптанная поляна?
— А после войны была совершенно консервативная вытоптанная поляна?
— На самом деле лучшее, что у нас есть, — это поэзия. Был замечательный авангардный поэт Станислав Винавер, который, между прочим, был во время революции в Петербурге в миссии и описал первые впечатления от всего, что происходило в середине 1917-го. Он сделал первый перевод «Двенадцати» Блока уже в 1918 году. А после Второй мировой войны, понятное дело, это несколько другая литература. Авангардных экспериментов я не знаю, но были замечательные стихи в конце 1950-х — начале 1960-х годов: Васко Попа, например, интересный поэт.
— Насколько была открыта и насколько была свободна академическая среда в последние годы Югославии и насколько она отличалась от советской?
— В МГУ, например, не говорили о Гумилеве. Не то чтобы совсем не говорили, просто он не был частью учебной программы. У нас же все эти авторы были. В этом смысле, конечно, наша среда отличалась, она не была идеологизированной. Я имею в виду в первую очередь тех, с кем я общалась, и тех, у кого я приобретала знания. Потому что были, конечно, и идеологизированные преподаватели. Например, профессор Бобович, для которого существовали только советские писатели, советские исследователи. Когда я принесла на занятия книгу Шестова «Достоевский и Ницше» в переводе на сербский язык, он сказал: «Ну что вы это читаете, это все ерунда»; или про Камю — «это все „тонкая” мысль» (т. е. то, что недопустимо), потому что это никак не вписывалось в его мировоззрение. Были и такие люди, каждый выбирал по своим интересам.
— При этом в университетской библиотеке они были. А книгоиздание послевоенное тоже наверняка было цензурированное?
— Все издательства были государственными, не было частных инициатив. Там работали люди, которые действительно были осведомлены в литературе, и в основном это писатели и поэты, которые формировали отдельные библиотеки. Книжки и печатались, и переводились, даже были некоторые совместные издания России и Сербии.
Наверное, цензура была, но она не ощущалась. Это касалось только текстов, направленных против власти в нашей стране, если в них было что-то против Тито. Все знают Джиласа, но это партийное диссидентство, а писатели печатались, там были другого плана споры — художественные. Например, кампания против романа «Гробница для Бориса Давидовича» Данило Киша — это эстетический спор: что можно интерполировать, как брать документ и включать в литературный текст и так далее. Хотя я могу привести другой пример: в театре шел «Самоубийца» Эрдмана, его убрали после нескольких спектаклей по требованию советского посольства из-за сцены, когда главный герой Подсекальников звонит в Кремль и сообщает, что Маркса он прочел и он ему не понравился. Еще я знаю, что были какие-то протесты против выхода «Антологии русской поэзии XIX–XX веков», потому что в ней было много эмигрантских поэтов. Но авторы антологии ее отстояли.
— А как тогда в Югославии воспринималось культурное влияние СССР и культурное влияние Запада? Не было предубеждения против советского вмешательства, против советской идеологии?
— Конечно, это никому не было приятно. Дело в том, что с 1961 года, когда прошел съезд неприсоединившихся, когда третий мир заявил о себе, начинают проводить разные фестивали. Например, театральный фестиваль БИТЕФ (Белградский интернациональный театральный фестиваль), который собирал самых лучших театральных деятелей со всего мира: из Америки, России, Японии, Германии, Италии и других стран. Мы могли видеть совершенно разные современные направления театрального искусства, самые актуальные, переводили очень много пьес. Была открытость информации, нам было доступно все с Востока и с Запада — и это была такая идеальная позиция.
— Вы понимали, что в СССР наследники авангарда были маргиналами, официальная Россия совсем другая и, по сути, вы занимались какой-то сказочной страной?
— Для меня авангард, как и для тех, кто занимался и продолжает им заниматься с разных точек зрения (например, по отношению к современному искусству), вечно живой и молодой. А то, что в Советском Союзе он был где-то на задворках и им не интересовались — это касалось идеологии, которая была соцреалистической на протяжении многих лет. Но опять-таки моя встреча с Нутовичем показала, что эти художники — и Краснопевцев, и Владимир Яковлев, и многие другие — органическое продолжение того авангардного искусства, что было раньше. Другое дело, что они выставлялись в частных квартирах, и мы знаем, чем это все закончилось тогда — в Манеже и так далее. Русский авангард всегда был визитной карточкой русской культуры.
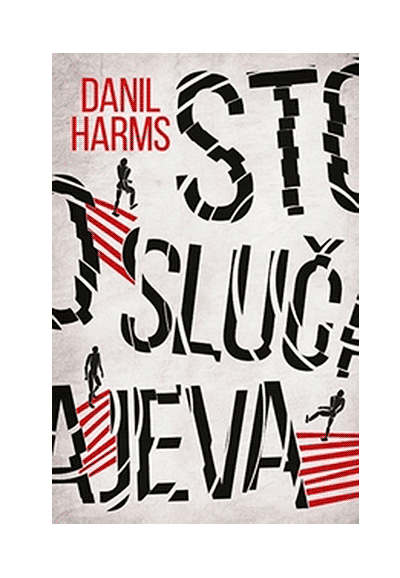 — Насколько трудно переводить Хлебникова, Хармса, Введенского на сербский язык?
— Насколько трудно переводить Хлебникова, Хармса, Введенского на сербский язык?
— Трудно, потому что там много неологизмов, если речь идет о Хлебникове. Меня постоянно уговаривают сделать большую книгу, но я не решаюсь. Мне бы хотелось, чтоб кто-то из тех, кто помоложе, кто-то из моих студентов за это взялся.
— В сербском языке ведь огромное количество заимствований, а неологизмов значительно меньше, чем в русском.
— Меньше, поэтому надо создавать славянские неологизмы на сербском языке, чтобы они соответствовали хлебниковскому принципу словотворчества. Хармса проще переводить — там другая поэтика. Я сейчас перевожу Введенского, и это тоже очень сложно: на первый взгляд, все якобы просто, но есть опасность соскользнуть в какую-то банализацию, легко перейти эту тонкую грань. С Малевичем просто было жутко, потому что это не русский язык, а смесь русского, польского, украинского, смесь каких-то несуществующих падежей, незаконченных мыслей. Надо просто было передать мысль, потому что, если все так оставить, никто ничего не поймет. Переводить Платонова — это своеобразное испытание. Я перевела три книжки, последняя из которых — «Котлован». Не знаю, насколько это будет понятно без дополнительного текста, без какого-то послесловия или предисловия — наш читатель с трудом это воспримет. Только тот, кто погружен в русскую культуру и кто читал антиутопии, Замятина, сможет по-настоящему прочесть эти тексты.
— А что с сербской литературой происходит сейчас? Какие современные вещи кажутся вам важными?
— Трудный вопрос для меня, потому что я не очень слежу за современной сербской литературой. Я, конечно, что-то читаю из того, что на слуху, например, молодого писателя Филипа Грбича, автора двух романов, которые были отмечены премиями.
— Мне кажется, что в России сейчас жуткий литературный кризис. Многие писатели превращаются в ремесленников — людей, которые надеются зарабатывать литературным трудом, — и из-за этого качество литературы очень сильно падает. Происходит девальвация литературы. Литература не находится на острие мысли. В Сербии похожие процессы происходят?
— У нас литература даже не развлекательная. Таких авторов, которые бы привносили что-то новое, которые бы сделали какой-то прорыв, нет. И в этом смысле можно говорить о кризисе. С другой стороны, у нас просто нет такой возможности — зарабатывать литературным трудом. Ты если пишешь, то пишешь даром, и, я думаю, что единственный гонорар, который ты можешь получить за публикацию, — это экземпляры своего сочинения.
— Мы привыкли считать, что Россия очень логоцентричная страна, что «поэт в России больше, чем поэт», что литература важна. В Югославии это было также?
— Никогда такого отношения к поэзии в Югославии не было. Но живая литературная жизнь была: встречи поэтов и писателей, обсуждения, презентации. А сегодня я ее просто не вижу.
— Вы перевели уже Малевича, Платонова, Хармса, сейчас переводите Введенского. Кто будет следующий?
— Если говорить о планах, мне хотелось бы после Введенского перевести некоторые книжки Владимира Казакова. И я считаю своим долгом перевести пьесы Платонова, которых вообще нет на сербском языке.
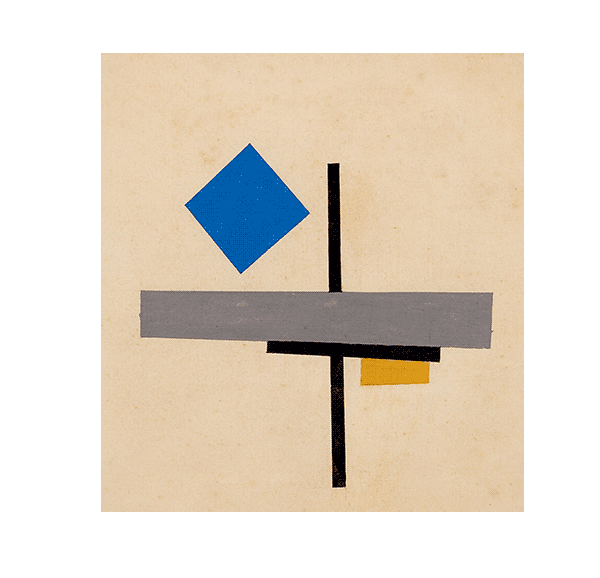 — Расскажите о вашей встрече с Сашей Соколовым. Белград все-таки был свободнее, чем СССР, это был мост между капитализмом и социализмом...
— Расскажите о вашей встрече с Сашей Соколовым. Белград все-таки был свободнее, чем СССР, это был мост между капитализмом и социализмом...
— Да, потому что многие встречались в Белграде, в том числе Саша Соколов, который приехал к нам из Канады в 1989 году, когда его «Школу для дураков» перевели на сербский язык. Я помню, он с женой был, мы разговаривали о многом. Потом он писал мне письма о том, что ему хотелось бы переехать в Сербию жить, спрашивал, где можно найти квартиру и так далее. Я даже занималась этим вопросом. Он в то время жил на острове Гидра в Греции, но в итоге ничего из этой затеи с переездом не получилось.
— А русские писатели из Советского Союза бывали в Югославии?
— Вспоминаю, например, 1988 год: я уже закончила университет, годом ранее Бродский получил Нобелевскую премию, а в октябре у нас проходила встреча писателей, темой которой была «Эмиграция и внутренняя эмиграция». Такие встречи проходят регулярно, их организовывает наш Союз писателей и приглашает литераторов и переводчиков из разных стран. И вот в 1988-м к нам приехали Соснора, Сапгир, Вегин, Бродский. Я тогда познакомилась с Соснорой и все эти дни фактически была с ним, помогала с переводом. Помню, как мы должны были пойти на прием в американское посольство (Бродский был гостем), но не попали на него, потому что ошиблись днем. У меня даже сохранились какие-то наши с Соснорой разговоры на бумаге — о поэзии, литературе, о разном. Это одна из встреч, которая запомнилась. Сапгир замечательно читал «Парад идиотов» со сцены. Встреча с Бродским тоже проходила в театре, там был интересный разговор.
— Насколько я понимаю, Соснора не должен был сильно любить Бродского — они ведь совсем разные поэты.
— Соснора — поэт, который наследует футуризму, а Бродский продолжает линию Цветаевой, Рильке, Ахматовой, Мандельштама — это другая поэтика. Самое интересное было в Самаре, когда проходила конференция «Возвращенные имена русской эмиграции». Приехали и Войнович, и профессор Казак из Германии, и Аксенов. У меня был доклад о Бродском и Овидии, поэтике изгнания. И когда мы разговаривали в гостинице, Аксенов стал хохотать — типа Бродский-Овидий. Тогда я еще не знала об истории, связанной с публикацией романа «Ожог», только потом прочитала.
— То есть вы тогда в Белграде выбрали Соснору, а не Бродского?
— Я Бродского тоже переводила, но с Соснорой было интересно общаться.
— Какое впечатление на вас произвел Бродский?
— Я чувствовала себя тогда, как в варьете из «Мастера и Маргариты». Это было такое театральное действие, игра на публику. Он говорил тогда по-английски, что многих раздражало, потому что он пишет все-таки и на русском языке. Он объяснял это тем, что он гражданин США. Многие просто требовали, чтобы он говорил по-русски.
— И читал стихи по-английски?
— Стихи — нет.