Набоков hate machine
Автор «Лолиты» расставляет точки над нелюбимыми писателями
Гоголь — жалкий морализатор, Стендаль и Бальзак — бездари, Достоевский банален и безвкусен: Владимир Набоков любил ниспровергать литературные авторитеты и совершенно не стеснялся в оценках и выражениях. «Горький» вспоминает, кому из писателей от него больше всех досталось. Чтобы ранжировать градус набоковской ненависти, мы поставили каждому писателю от одной до пяти звездочек — наподобие того, как указывают остроту блюда в ресторанных меню.
1. Иван Тургенев
***
«…как и большинство писателей своего времени, Тургенев всегда излишне прямолинеен и недвусмыслен, он не оставляет никакой поживы для читательской интуиции, выдвигает предположение, чтобы тут же скучно и нудно объяснить, что именно он имел в виду. Тщательно выписанные эпилоги его романов и повестей кажутся до боли искусственными, автор из кожи вон лезет, потакая читательскому любопытству, последовательно рассматривая судьбы героев в манере, которую с большой натяжкой можно назвать художественной. Он не великий писатель, хотя и очень милый. Он никогда не поднимался до высот „Мадам Бовари”, и причислять Тургенева и Флобера к одному литературному направлению — явное заблуждение. Ни его готовность взяться за любую модную общественную идею, ни банальный сюжет (всегда примитивнейший) невозможно сравнивать с суровым искусством Флобера».
(Из «Лекций по русской литературе»)
2. Федор Достоевский
*****
«Я испытываю чувство некоторой неловкости, говоря о Достоевском. В своих лекциях я обычно смотрю на литературу под единственным интересным мне углом, то есть как на явление мирового искусства и проявление личного таланта. С этой точки зрения Достоевский писатель не великий, а довольно посредственный, со вспышками непревзойденного юмора, которые, увы, чередуются с длинными пустошами литературных банальностей. В „Преступлении и наказании” Раскольников неизвестно почему убивает старуху-процентщицу и ее сестру. Справедливость в образе неумолимого следователя медленно подбирается к нему и в конце концов заставляет его публично сознаться в содеянном, а потом любовь благородной проститутки приводит его к духовному возрождению, что в 1866 г., когда книга была написана, не казалось столь невероятно пошлым, как теперь, когда просвещенный читатель не склонен обольщаться относительно благородных проституток. Однако трудность моя состоит в том, что не все читатели, к которым я сейчас обращаюсь, достаточно просвещенные люди. Я бы сказал, что добрая треть из них не отличает настоящую литературу от псевдолитературы, и им-то Достоевский, конечно, покажется интереснее и художественнее, чем всякая дребедень вроде американских исторических романов или вещицы с непритязательным названием „Отныне и вовек” и тому подобный вздор».
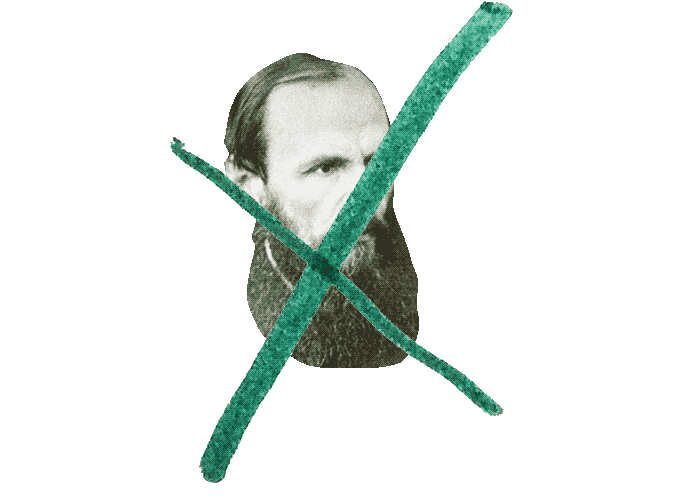 «Безвкусица Достоевского, его бесконечное копание в душах людей с префрейдовскими комплексами, упоение трагедией растоптанного человеческого достоинства — всем этим восхищаться нелегко. Мне претит, как его герои „через грех приходят ко Христу”, или, по выражению Бунина, эта манера Достоевского „совать Христа где надо и не надо”. Точно так же, как меня оставляет равнодушным музыка, к моему сожалению, я равнодушен к Достоевскому-пророку. Лучшим, что он написал, мне кажется „Двойник”. Эта история, изложенная очень искусно, по мнению критика Мирского, — со множеством почти джойсовских подробностей, густо насыщенная фонетической и ритмической выразительностью, — повествует о чиновнике, который сошел с ума, вообразив, что его сослуживец присвоил себе его личность. Повесть эта — совершенный шедевр, но поклонники Достоевского-пророка вряд ли согласятся со мной, поскольку она написана в 1840 г., задолго до так называемых великих романов, к тому же подражание Гоголю подчас так разительно, что временами книга кажется почти пародией».
«Безвкусица Достоевского, его бесконечное копание в душах людей с префрейдовскими комплексами, упоение трагедией растоптанного человеческого достоинства — всем этим восхищаться нелегко. Мне претит, как его герои „через грех приходят ко Христу”, или, по выражению Бунина, эта манера Достоевского „совать Христа где надо и не надо”. Точно так же, как меня оставляет равнодушным музыка, к моему сожалению, я равнодушен к Достоевскому-пророку. Лучшим, что он написал, мне кажется „Двойник”. Эта история, изложенная очень искусно, по мнению критика Мирского, — со множеством почти джойсовских подробностей, густо насыщенная фонетической и ритмической выразительностью, — повествует о чиновнике, который сошел с ума, вообразив, что его сослуживец присвоил себе его личность. Повесть эта — совершенный шедевр, но поклонники Достоевского-пророка вряд ли согласятся со мной, поскольку она написана в 1840 г., задолго до так называемых великих романов, к тому же подражание Гоголю подчас так разительно, что временами книга кажется почти пародией».
(Из «Лекций по русской литературе»)
3. Максим Горький
****
«Художественный талант Горького не имеет большой ценности. Но он не лишен интереса как яркое явление русской общественной жизни».
«Заметьте, что схематизм Горьковских героев и механическое построение рассказа восходят к давно мертвому жанру нравоучительной басни или средневековых „моралите”. И обратите внимание на его низкий культурный уровень (по-русски он называется псевдоинтеллигентностью), что совершенно убийственно для писателя, обделенного остротой зрения и воображением (способными творить чудеса под пером даже необразованного автора). Сухая рассудочность и страсть к доказательствам, чтобы иметь маломальский успех, требуют определенного интеллектуального размаха, который у Горького напрочь отсутствовал. Чувствуя, что убогость его дара и хаотическое нагромождение идей требуют чего-то взамен, он вечно выискивал сногсшибательные факты, работал на резких контрастах, обнажал столкновения, стремился поразить и потрясти воображение, и, поскольку его так называемые могущественные, неотразимые рассказы уводили благосклонного читателя от всякой объективной оценки, Горький произвел неожиданно сильное впечатление на русских, а затем и зарубежных читателей. Я своими ушами слышал, как умнейшие люди утверждали, что сентиментальный рассказец „Двадцать шесть и одна” — истинный шедевр. Эти двадцать шесть изгоев работают в подвале, в очередной пекарне; грубые, неотесанные, сквернословящие мужики окружают почти религиозным обожанием юную барышню, которая ежедневно приходит к ним за хлебом, а затем, когда ее соблазняет солдат, глумятся над ней. Вот это-то и показалось читателю чем-то новым, хотя при ближайшем рассмотрении оказывается, что рассказ — образчик заурядной мелодрамы или традиционного плоского сентиментального жанра в его наихудшем варианте. В нем нет ни одного живого слова, ни единой оригинальной фразы, одни готовые штампы, сплошная патока с небольшим количеством копоти, примешанной ровно настолько, чтобы привлечь внимание».
(Из «Лекций по русской литературе»)
4. Вирджиния Вулф и Кэтрин Мэнсфилд
****
«Так случилось, что за последнее время я много читал книг женского пола. <…> Кроме того: все, что написала Virginia Woolf и Katherine Mansfield. Прочтите, скажем, „Орландо” — это образец первоклассной пошлятины. Мэнсфилд лучше — но и в ней есть что-то крайне раздражительное, банальная боязнь банального и какая-то цветочная сладость».
(Из письма Зинаиде Шаховской от 25 июля 1933 года)
5. Мигель де Сервантес Сааведра
***
«Но сначала несколько общих соображений. „Дон Кихот” был назван величайшим из романов. Это, конечно, чушь. На самом деле он даже не входит в число величайших мировых романов, но его герой, чей образ был гениальной удачей Сервантеса, так чудесно маячит на литературном горизонте каланчою на кляче, что книга не умирает и не умрет из-за одной только живучести, которую Сервантес привил главному герою лоскутной, бессвязной истории, спасенной от распада лишь изумительным инстинктом автора, всегда готового рассказать еще одну историю из жизни Дон Кихота, причем в нужную минуту».
 «…в нашей книге искусственные возвраты к былому и половинчаты и отрывочны. У Сервантеса, сочинявшего книгу, словно чередовались периоды ясности и рассеянности, сосредоточенной обдуманности и ленивой небрежности, что очень похоже на полосатое помешательство его героя. Сервантеса спасала интуиция. Книга, как замечает Груссак, никогда не преподносилась автору в виде законченного сочинения, стоящего особняком, полностью отделившегося от хаотического материала, из которого она выросла. Мало того, он не только ничего не предвидел — он никогда и не оглядывался. Начинает казаться, что, пока он писал вторую часть, перед ним на письменном столе не лежал экземпляр первой; что он в него даже не заглядывал: кажется, что он помнил эту первую часть не лучше рядового читателя, а не как подобает писателю или ученому. Иначе нельзя понять, как он, например, умудрился, критикуя ошибки, сделанные автором подложного продолжения „Дон Кихота”, совершить еще худшие промахи в том же направлении, относительно тех же персонажей».
«…в нашей книге искусственные возвраты к былому и половинчаты и отрывочны. У Сервантеса, сочинявшего книгу, словно чередовались периоды ясности и рассеянности, сосредоточенной обдуманности и ленивой небрежности, что очень похоже на полосатое помешательство его героя. Сервантеса спасала интуиция. Книга, как замечает Груссак, никогда не преподносилась автору в виде законченного сочинения, стоящего особняком, полностью отделившегося от хаотического материала, из которого она выросла. Мало того, он не только ничего не предвидел — он никогда и не оглядывался. Начинает казаться, что, пока он писал вторую часть, перед ним на письменном столе не лежал экземпляр первой; что он в него даже не заглядывал: кажется, что он помнил эту первую часть не лучше рядового читателя, а не как подобает писателю или ученому. Иначе нельзя понять, как он, например, умудрился, критикуя ошибки, сделанные автором подложного продолжения „Дон Кихота”, совершить еще худшие промахи в том же направлении, относительно тех же персонажей».
(Из «Лекций о Дон Кихоте»)
6. Алексей Ремизов
****
«Читая сказания Ремизова, поражаешься их безнадежной пресности, т. е. не находишь в них именно того, что одно может оправдать этот литературный жанр».
«Ни особого воображения, ни особого мастерства у Ремизова не найдешь».
«Добро еще, если бы слог Ремизова был безупречен. Но, увы, — какая небрежность, какой случайный подбор слов, какой подчас суконный язык… „Угрюмо жуткою ночью сменялись первые дни на земле” или: „Жестокий сумрак безлунный безмолвием облек город”. Не лучше „подстреленное оскорбленное сердце” и „кровью обливалось сердце, искало выхода” (сердце Богородицы, которое „ищет выхода”, — это, в смысле стиля, даже как-то кощунственно). И уже к области недопустимых курьезов относится следующее: „становились на колени, и змий с ними”. Нет, это не простое неведение (автор знает, что у змия нет колен, на которые он мог бы становиться), но это и не святая непосредственность. Это есть признак той небрежности, отпечаток которой лежит на всей книге».
(Из рецензии на книгу А. Ремизова «Звезда надзвездная», «Руль», 14 ноября 1928 года)
7. Борис Пастернак
*****
«Я глубоко сочувствую тяжкой судьбе Пастернака в полицейском государстве, но ни вульгарный стиль „Живаго”, ни философия, ищущая пристанище в болезненно слащавом христианстве, не в силах превратить это сочувствие в энтузиазм собрата по ремеслу».
«…книга („Доктор Живаго”) — жалкая, топорная, тривиальная, мелодраматическая, с банальными ситуациями, сладострастными адвокатами, неправдоподобными барышнями и банальными совпадениями».
(Из интервью, октябрь 1972 года)
8. Николай Гоголь
*****
«Я ненавижу морализаторский пафос Гоголя, меня приводит в уныние и недоумение его абсолютная беспомощность в изображении девушек, мне отвратителен его религиозный фанатизм. Способность к словотворчеству не может служить настоящей связью между авторами, это всего лишь гирлянды и мишура. Его возмутили бы мои романы, он заклеймил бы бесхитростный, весьма поверхностный очерк его жизни, который я написал двадцать пять лет назад. Гораздо успешнее, потому что основана на более глубоком изучении, написана биография Чернышевского (в романе „Дар”), чьи работы мне представляются смехотворными, но чья судьба задела меня за живое гораздо сильнее, чем судьба Гоголя».
 (Из интервью журналу «Вог», 1969 год)
(Из интервью журналу «Вог», 1969 год)
9. Томас Элиот и Эзра Паунд
****
«В отличие от многих моих современников, в 1920–1930-е годы я избежал влияния отнюдь не первоклассного Элиота и несомненно второсортного Паунда. Их стихи я прочитал гораздо позже, где-то в 1945-м, в гостиной одного из моих американских друзей, и остался не только совершенно равнодушен, но вообще не мог понять, почему они хоть кого-нибудь должны волновать. Однако я признаю, что произведения этих авторов сохраняют некоторую сентиментальную ценность для тех читателей, которые познакомились с ними в более раннем возрасте, чем я».
(Из интервью журналу «Плейбой», 1964 год)
10. Лев Толстой
*****
«Публицистические атаки Толстого невыносимы. Роман „Война и мир” длинноват; это разухабистый исторический роман, написанный для того аморфного и безвольного существа, который называется „рядовым читателем”, но в основном он адресован юному читателю. Он совершенно не удовлетворяет меня как художественное произведение. Я не получаю никакого удовольствия от его громоздких идей, от дидактических отступлений, от искусственных совпадений, когда невозмутимый князь Андрей становится очевидцем какого-нибудь исторического момента или когда Толстой делает сноску, ссылаясь на источник, к которому он не счел нужным подойти осмысленно».
(Из ответов на вопросы Джеймса Моссмена для программы «Обозрение» Би-би-си-2, осень 1969 года)
11. Эрнест Хемингуэй и Джозеф Конрад
***
«[Хемингуэй и Конрад] детские писатели в самом точном смысле слова. Хемингуэй, конечно, из них лучший: у него, во всяком случае, есть свой собственный голос и ему принадлежит очаровательный, прекрасно написанный рассказ „Убийцы”. Описание радужного блеска рыбы и ритмичного мочеиспускания в его знаменитой рыбной истории превосходно. Но я не выношу стиль Конрада, напоминающий сувенирную лавку с кораблями в бутылках, бусами из ракушек и всякими романтическими атрибутами. Ни у одного из этих двух писателей я не могу найти ничего такого, что хотел бы написать сам. Уровень сознания и эмоций у них безнадежно юношеский, что можно сказать и о некоторых других почитаемых писателях, любимцах студенческих курилок, а также утешении и опоре студентов-выпускников, как, например… — но некоторые из них еще живы, и мне не хочется обижать еще здравствующих „стариков”, когда мертвые еще не похоронены».
 (Из интервью журналу «Плейбой», 1964 год)
(Из интервью журналу «Плейбой», 1964 год)
12. Разное
«С тех самых пор как монументальные посредственности вроде Голсуорси, Драйзера, персонажа по имени Тагор, еще одного по имени Максим Горький и третьего по имени Ромен Роллан стали восприниматься как гении, меня изумляют и смешат сфабрикованные понятия о так называемых „великих книгах”. То, что, к примеру, глупая „Смерть в Венеции” Манна, или мелодраматичный и отвратительно написанный „Живаго” Пастернака, или кукурузные хроники Фолкнера могут называться „шедеврами” или, по определению журналистов, „великими книгами”, представляется мне абсурдным заблуждением, словно вы наблюдаете, как загипнотизированный человек занимается любовью со стулом».
(Из интервью Роберту Хьюзу, 1965 год)
«…г-н Уилсон в ужасе от моей „врожденной склонности свергать с пьедестала великие авторитеты”. Что ж, ничего не поделаешь; г-н Уилсон должен смириться с моей склонностью и ждать очередного громкого столкновения. Я отказываюсь быть под влиянием и властью общепринятых мнений и академических традиций, как он того желает. Какое он имеет право препятствовать мне считать переоцененными бездарностями такие фигуры, как Бальзак, Достоевский, Сент-Бёв или Стендаль, этот любимчик всех тех, кому нравится их плоская французская равнина? Много ли удовольствия получил г-н Уилсон от романов мадам де Сталь? Корпел ли когда над нелепостями Бальзака и клише Стендаля? Вникал в мелодраматический сумбур и пошло-фальшивый мистицизм Достоевского? Способен ли и в самом деле почитать этого архихама, Сент-Бёва? И почему мне запрещается считать, что чудовищное и оскорбительное либретто оперы Чайковского живет благодаря музыке, чья приторная пошлость преследовала меня с тех самых пор, как я кудрявым мальчиком сидел в бархатной ложе?»
(Из статьи «Ответ моим критикам», 1966)