«На многих этапах жизни я чувствовал себя Аладдином»
Читательская биография писателя и переводчика Владимира Микушевича
Какими были ваши самые ранние читательские впечатления?
Мне было года четыре, когда я увидел книгу, которая меня очень заинтересовала: это был «Аладдин и Волшебная лампа» в каком-то не очень академическом пересказе. Мне захотелось ее прочесть, я начал, и оказалось, что я умею читать. Книга произвела на меня неизгладимое впечатление, и до сих пор «Тысяча и одна ночь» остается моим любимым чтением. Считаю, что в определенном смысле это оказало влияние на всю мою жизнь. На многих этапах жизни я чувствовал себя Аладдином.
Почему?
Мне казалось, что какие-то силы вроде джиннов неизбежно участвуют в том, что с нами происходит. И потом, вы знаете, я прочитал, что согласно арабской традиции поэтическое искусство берет начало именно от джиннов. Мухаммед, который тоже ведь непосредственно связан с книгами, возмущался, когда его называли поэтом. Он говорил, что Коран ему внушил архангел Джабраил, архангел Гавриил, а силы поэтов — от джиннов. И когда он встретил одного поэта, он сказал: «Да сохранит меня Аллах от джинна, который в нем!» То есть он признавал силу джиннов, и я с тех пор ощущаю в своей жизни присутствие джиннов, неких творческих начал.
Что-то вроде демона Сократа?
Это примерно то же самое. Гете говорил о роли джиннов, или гениев, или демонов, в жизни всех творческих людей. Он считал, что особенно подвержены этому музыканты. И в особенности этому подвержен был Моцарт. Гете называл их именно демонами. Но это, в общем, одно и то же. Какие-то творческие начала, которые кажутся независимыми от нас, но без которых мы не можем существовать.
А что было после Аладдина?
После Аладдина мне попался однотомник Гоголя, большой, дореволюционный. Предполагалось, что я буду читать «Вечера на хуторе близ Диканьки», и действительно я их прочел, и они произвели на меня огромное впечатление. С тех пор я люблю Украину. Мне очень тяжела вся эта история с Украиной, потому что это было мое любимое чтение: «Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи!» Но дома нашлись также «Выбранные места из переписки с друзьями», и я совсем маленьким за них взялся. Там оказалось примерно то, что я уже слышал от бабушки, которая мне читала Евангелие в раннем возрасте, еще до того, как я научился читать, и одно на другое наложилось. Это произвело на меня неизгладимое впечатление. Я всегда знал, что Бог есть, но теперь получил мощное подтверждение. На мой взгляд, эту книгу Гоголя недооценивают. Там есть, например, письмо, которое называется «Христианин идет вперед», — с течением времени оно становится все более и более актуальным. Гоголь говорит в нем, что развитие современного человека продолжается до сорока лет, а потом начинается закат. Люди деградируют, Кант чуть ли не собственное имя даже забыл с возрастом. Не знаю, возможно, это преувеличение. Свифт тоже терял память. Но к христианину это не относится, потому что перед христианином всегда находятся вечные зрители. Поэтому православные старцы, даже если они и не были особо образованными людьми, в глубокой старости высказывали глубокие истины — они приближались к тому миру, ради которого они живут. Вот это письмо становится все более и более актуальным, рекомендую его всем вашим читателям.
То есть вы не видите принципиального разрыва между Гоголем ранним и Гоголем времен «Избранных мест из переписки»?
Определенный разрыв, конечно, был, но для Гоголя он стал творческим началом.
То есть в дошкольное время именно эти книги на вас в наибольшей степени повлияли?
Да, но этим мое чтение, конечно, не ограничивалось. Я рано начал запоминать стихи наизусть, и огромное впечатление произвели на меня «Бесы» Пушкина. Это было время воздушных тревог. «Мчатся тучи, вьются тучи; / Мчатся бесы рой за роем» — у меня это наложилось на опыт воздушных тревог и бомбардировок под Москвой. Мы никуда не эвакуировались, и это было мощное впечатление, которое я не изжил до сих пор. Кроме того, я зачитывался «Русланом и Людмилой», «Демоном» Лермонтова, «Робинзоном Крузо» (полным, не сокращенным), «Приключениями Гекльберри Финна». Тогда же я полюбил перечитывать книги, и до сих пор очень люблю, причем возвращаюсь к тем же самым книгам — к Гоголю, Пушкину, Лермонтову. Уже в дошкольное время я начал читать «Героя нашего времени»: «Бэла» и «Тамань» навсегда врезались в мою память и во многом определили мой внутренний мир и мои литературные вкусы. Впоследствии я с интересом узнал, что крупнейший писатель XX века Джеймс Джойс считал, что «Герой нашего времени» — лучший роман всех времен и народов.
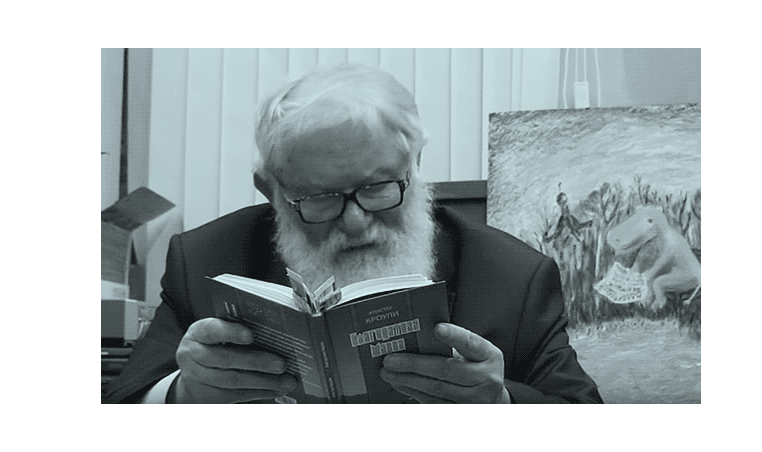
Владимир Микушевич читает Алистера Кроули
Фото: youtube.com
Серьезно?
Да. Не могу сослаться точно, где об этом шла речь, но ведь Джойс знал русский язык, он много языков знал. Он считал «Героя нашего времени» лучшим романом всех времен и народов, и я думаю, что это правильно.
В одном интервью вы говорили, что Лермонтов вам ближе, чем Пушкин.
В каком-то смысле да. Лермонтов открывает мир ночной, мир сновидений, об этом удивительно писал Мережковский в свое время. Он говорил, что Пушкин — солнце русской поэзии, а Лермонтов — луна, а еще рассказывал, как на него подействовала строка «По небу полуночи ангел летел». Мережковский думал, что есть такая «луночь», по которой летит ангел. Я чувствовал так же. И когда я прочел Мережковского, понял, что это, в общем, мне хорошо знакомо.
Мне кажется, у Пушкина тоже довольно много таких «ночных» мест.
Но у него они другие, у него «Жизни мышья беготня» в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы». Все-таки Пушкин поэт дневного света, ночь его немного даже пугает. «О, если правда, что в ночи, / Когда покоятся живые / И с неба бледные лучи / Скользят на камни гробовые, / О, если правда, что тогда / Пустеют тихие могилы, — / Я тень зову, я жду Леилы: / Ко мне мой друг, сюда, сюда!» Вот представьте себе, такая мелочь — «Я жду Леилы», а скажете: «Я жду Леилу», и стихотворение исчезнет.
У вас дома хорошая библиотека была в детстве?
Кое-какие книги имелись, а хорошая библиотека была в том поселке, где я жил, в Малаховке, и я ей широко пользовался. Там работал межбиблиотечный абонемент, который дал мне возможность прочитать многие замечательные книги. Благодаря этому абонементу я, например, прочел «Историю крушения и разрушения Римской империи» Гиббона, а также мне удалось заказать «Петербург» Андрея Белого, причем в одном из редких изданий (впоследствии он печатался уже в переработанном виде). Еще — это относится и к названию вашего сайта — я рано начал читать Горького. «Детство», «В людях» и «Мои университеты» — я во многом отождествлял себя с героем этих произведений в том, что касается книг, да и семейных связей. Я вообще считаю, что, как ни странно, Горький у нас до сих пор недооценивается. По-моему, присуждение Нобелевских премий русским всегда было странно политизированным. Конечно, Бунин — прекрасный писатель, один из моих любимейших, но что, собственно, Бунин говорит Западу? В общем, ничего. Премию ему дали потому, что он был видным писателем эмиграции, а о дальнейших лауреатах можно и не говорить, это понятно. По-моему, Нобелевские премии, по справедливости, должны были получить Горький и Маяковский. Горького читали во всем мире, он произвел переворот в мировой литературе. Собственно говоря, трагедия Горького — это трагедия богоискательства. Тема русского богоискательства недостаточно исследована — я лично считаю, что ищет бога тот, кто не нашел самого себя. В каком-то смысле это относится и к Горькому, он в результате этих поисков самого себя создал величайшее русское произведение XX века, «Жизнь Клима Самгина». Этот роман превосходит по своему значению все остальные русские романы прошлого века, и его недооценка, конечно, глубоко несправедлива. Вообще, в XX веке было три великих романа: «Улисс» Джойса, «В поисках утраченного времени» Пруста и «Жизнь Клима Самгина» Горького. Между «Поисками утраченного времени» и «Жизнью Клима Самгина» есть параллели, хотя Горький не очень любил Пруста и отзывался о нем довольно пренебрежительно, но тем не менее в самой фактуре этих романов есть общее.
А с Маяковским вообще загадочная ситуация. Дело в том, что Маяковский — единственный русский поэт, который оказал влияние на мировую литературу, причем в довольно несовершенных переводах. Были гораздо более совершенные переводы Пушкина, но мир к нему все равно относится с вежливым холодком, не совсем понимая, в чем здесь дело. А Маяковский сразу стал влиятельным. Это весьма примечательное и любопытное явление. Вот два русских литератора, прозаик и поэт, которые в XX веке действительно имели мировое значение — не на словах, а реальное.
А когда вы пошли в школу, это как-то поменяло круг вашего чтения? Вам хорошо преподавали литературу?
Как вам сказать. Я читал посторонние книги в школе, сидел на задней парте и читал, а учительница мне не мешала: мы с ней условились, что иначе я буду задавать вопросы, на которые ей будет трудно отвечать. У нас было такое соглашение. И я, в общем, очень много там прочитал.
То есть это не каралось, но и не поощрялось.
Ну, естественно, не поощрялось. Кроме того, одна из особенностей нашего подмосковного поселка Малаховка заключалась в том, что там на чердаках было много книг, которых больше нигде не достанешь — русская религиозная философия. Я очень рано, лет в тринадцать-четырнадцать, прочитал Мережковского, не только трилогию «Христос и Антихрист», но и замечательную книгу «Толстой и Достоевский», потом разрозненные статьи Бердяева, Владимира Соловьева — это чтение в школьное время для меня имело большое значение, хотя я уже понимал, что в школе говорить о таком не стоит.
Это были пятидесятые годы?
Я тридцать шестого года, так что конец сороковых — пятидесятые.
Малаховка ведь дачный поселок, насколько я помню?
Да, и на этих дачах можно было найти много интересного.

Владимир Микушевич (в середине) ест свое любимое мороженое
Фото: Яна Бебре
А как вы попадали на чердаки?
Ходил к знакомым деда и бабушки, и они мне разрешали эти книги читать, даже давали на дом. Кроме того, там еще жили дамы, которые знали иностранные языки, — я, благодаря им, подучил немецкий, познакомился с французским, а английский язык учил сам.
Так возник ваш интерес к переводу?
Да. Я уже очень рано, в младших классах школы, стал думать о том, как переводить стихи. Однажды был такой зимний вечер, когда по радио передавали «Лоэнгрина» Вагнера, и я спросил у мамы: «А если просто передать буквальный смысл стихотворения, будет это стихотворением или нет?» Она сказала: «Нет, это особое искусство». С тех пор я решил, что этим особым искусством буду заниматься, и попросил ее для начала купить мне какую-нибудь английскую книгу, хотя это было очень трудно. Сначала она раздобыла мне «Дон Жуана» Байрона, которого я начал просто читать со словарем. А главную службу в изучении английского языка сослужила мне «Vanity Fair», то есть это «Ярмарка тщеславия» Теккерея, мама купила мне оба тома: я читал их целую зиму (вероятно, это было уже в седьмом классе) и к весне уже понимал английский язык.
Но ведь английский язык XIX века, как мне кажется, довольно сложный? У меня все время от английской литературы того времени такое ощущение, что там простые слова, но у этих простых слов огромное количество значений, и очень легко запутаться.
Совершенно верно. Но у меня уже в тринадцать-четырнадцать лет были первые опыты поэтического перевода, я переводил Лонгфелло и Шелли. Помню, например, как я начал переводить стихотворение Шелли: «О часы, скончался год, / Плачьте, плачьте в тишине; / Он прошел, как все пройдет, / Он застыл в беззвучном сне, / Над отцовскою могилой / Слезы льют часы уныло». Впоследствии я много Шелли переводил. Тогда же я перевел стихотворение Лонгфелло «Весенний дождь»: «Он по крышам стучит, как копыта коней, / Из трубы водосточной он льется, / И шипя, и гремя, словно горный ручей, / О горячую землю он бьется». Это мои первый опыты поэтического перевода. Так, благодаря книгам, я начал переводить, чем и занимаюсь, в общем, всю жизнь.
Вам действительно будто какой-то джинн помогал: обычно если люди рано начинают заниматься такими вещами, то у них какая-то особая среда или родители — я так понимаю, у вас ничего этого не было?
Нет, мама работала бухгалтером в школе, отец был инженер-экономист, он умер, когда мне не исполнилось еще и четырнадцати. До этого он был на войне. Я мало с ним общался, и особенной среды у меня никогда не было. Но, как у Горького в «Детстве», огромную роль в моей жизни стали играть книги. Правда, постепенно у меня начало складываться иное отношение к книгам. Позже я прочитал у Паскаля удивительное высказывание и поразился, как это верно. По его словам, когда он читает Монтеня, он читает самого себя. У меня очень рано появилось ощущение, что если мне по-настоящему нравится книга, то ее словно бы написал я, хотя я ее не писал.
Как у Борхеса в «Пьере Менаре, авторе „Дон Кихота”»?
Примерно. Но в то же время большое значение приобрело для меня запоминание наизусть (книги были не мои, приходилось их возвращать). И это, по-моему, тоже сыграло немалую роль. Я не особенно страдаю склерозом теперь, и от многих болезней оказался спасен тем, что немало стихов помню наизусть. Я до сих пор уверен, что критерий поэтичности стихотворения — помнит ли поэт стихотворение наизусть. Эту мысль я потом прочитал у Вейнингера в его замечательной книге «Пол и характер», которую незаслуженно забыли. Помимо негативного отношения к женщинам, там было много глубоких мыслей, и одна из них заключается в том, что запоминание наизусть, помнит ли поэт свои стихи, — это в каком-то смысле критерий их ценности.
А были какие-то люди, которые разделяли ваши интересы, сверстники или кто-нибудь постарше?
Честно говоря, нет.
Вы сидели один с книгами?
На меня сильно влиял мой дед, который хорошо знал старую русскую жизнь и литературу, но он был агроном в советское время, владел цветоводческим магазином до революции, а в советское время работал садовником в генеральском военном поселке. Но он помнил наизусть целые страницы из Мельникова-Печерского, из Лескова — тогда эти книги нельзя было достать, и я о них услышал от него. Но, конечно, поэзии я от него почти не слышал. Поэзия — это было мое открытие.
В Малаховку ваша семья попала благодаря деду?
Да, сносили его дом в Москве, и ему с торгов приобрели взамен участок и дачу, где я рос. В моем романе «Воскресение в третьем Риме» Малаховка называется Мочаловка, это как у Фолкнера округ Йокнапатофа. Причем у этого слова много смыслов, оно означает «вечность» — висит мочало, начинай сказку с начала. Я этот роман не считаю законченным, продолжаю его писать и не уверен, что закончу когда-нибудь.
С такими интересами вам был очевиден дальнейший путь после школы? Вы сразу собирались идти в Институт иностранных языков? Не думали о филфаке?
Было в высшей степени маловероятно, что я вообще смогу получить высшее образование. Моя мать, как я уже говорил, работала бухгалтером в школе, зарабатывала двести рублей. Попасть в Институт иностранных языков я и мечтать не мог, потому что туда только генеральских дочек принимают — так говорили мои друзья, среди которых была публика довольно сомнительная, в том числе и блатные (блатные были среди них потому, что я знал много стихов Есенина наизусть, а его тогда еще не издавали, и у меня появились поклонники в этих кругах).

Виды Малаховки
Фото: pastvu.com
Я держал экзамен в университет, но не добрал один балл, и меня неожиданно направили в Институт иностранных языков — тогдашний его директор, Варвара Алексеевна Пивоварова, приняла меня, потому что я сказал, что хочу работать в школе, а тогда все, кто поступал, мечтали только о карьере дипломатических переводчиков. Правда, в школе работать у меня не вышло, там сразу возникли неожиданные проблемы: я стал учить языку больше, чем следовало, сверх программы. Мне объяснили, что так, как я преподаю язык, не нужно обучать в средней школе, поэтому меня направят туда, где это действительно нужно. Но как раз в это время вышла первая книга с моими переводами — роман Генриха Манна «Молодые годы короля Генриха IV» со стихами в моем переводе, и офицер, который собирался меня уже брать в соответствующую организацию, полистал и сказал: «Знаете, жалко вашего таланта, потому что мы вас засекретим, и вы не сможете этим заниматься. Занимайтесь тем, чем вы занимаетесь».
Благородно поступил?
В общем, я ему благодарен до сих пор, потому что отказаться от той работы было трудно. Меня собирались направить, вероятно, в разведшколу, преподавать немецкий язык. Я, наверное, не отказался бы, но я не знал всех обстоятельств, меня это даже как-то мало интересовало, в общем. Кроме всего прочего, моя мать осталась бы одна. Так и вышло, что уже после института я вступил на этот путь — занялся переводами.
А как менялось в университетские годы ваше чтение? Что вы нового для себя открыли?
Конечно, менялось. В Институте иностранных языков была великолепная библиотека. Я прочитал немецких романтиков, прочитал Клейста — у меня этих книг, конечно, не было. Рильке я тоже долгое время читал библиотечного. Потом я его перевел, и мои переводы имели некоторый резонанс. Великолепная была библиотека, не знаю, как она теперь, — наверное, сохранилась в основном.
То есть она была настолько укомплектована, что вам не приходилось, как многим в то время, заниматься охотой за книгами?
У меня на это просто не было денег, иначе я бы занимался, конечно. Приходилось довольствоваться тем, что есть.
А что вас впечатлило в университетские годы помимо немецких романтиков?
Я очень любил и люблю до сих пор Сергея Тимофеевича Аксакова. Это мое любимое чтение, оно напоминает мне паводки наших подмосковных речек. Несомненно, я не мог пройти мимо Достоевского, хотя предпочитаю Толстого. Величайшим открытием для меня стал Бунин, причем Бунин «Темных аллей» и «Митиной любви». Эти произведения я прочитал уже, так сказать, не в школе, и впечатление было огромное. Его поэзия, вероятно, оказала влияние и на мою поэзию.
Бунина вы прочитали уже когда его начали в Советском Союзе публиковать?
Я читал в основном советские публикации, да. Но вообще Бунина у нас не переставали печатать, он даже пытался получать гонорары, и ему не платили их. Бунин запрещен полностью не был никогда, да это и невозможно было, учитывая его влияние на всех советских писателей. Я помню зеленовато-голубой пятитомник Бунина, вот его я уже по-настоящему прочел. Но еще раньше, в старших классах, мне попалась «Песнь о Гайавате», там не обозначался переводчик, но это был перевод Бунина.
Значит, после института вы решили стать переводчиком и зарабатывать этим на жизнь?
Я уже в институте начал печататься (возможно, я и не кончил бы институт, если бы не эти скромные гонорары), и уже после него вступил в Профком литераторов при издательстве «Художественная литература», а в 1972 году меня приняли в Союз писателей. Правда, тут тоже возникла проблема: я хотел вступить в Союз писателей как оригинальный поэт, и мне все время обещали какую-то книгу издать. Но этого так и не произошло в советское время из-за религиозной символики в моих стихах. Были любители моих стихов, настоящих антисоветских стихов я никогда не сочинял, но серьезные конфликты возникали уже из-за того, что я «Бог» писал с большой буквы. Помню, целую подборку в журнале «Дружба народов» сняли из-за строки: «Бог знает, каким измереньем…». «Бог» было написано с большой буквы, сняли целую подборку.
Как вы впервые опубликовали свои переводы, что для этого нужно было сделать?
Был семинар молодых переводчиков при Союзе писателей, там на меня обратили внимание, поскольку я владел классическим стихом так, как не все уже владели тогда. Я уже из школы вышел, владея классическим стихом, писал сонеты, и до сих пор пишу, это все-таки, знаете, не шутка. На это и обратили внимание.
А кто-то отдельный сыграл в этом роль?
Михаил Александрович Зенкевич обращал на меня внимание, известный переводчик, он принадлежал кругу Гумилева в свое время. Он руководил семинаром. Вильгельм Вениаминович Левик тоже руководил семинаром, но Зенкевич, пожалуй, большую для меня роль сыграл, потому что с Вильгельмом Вениаминовичем у нас начались некоторые трения: я переводил то, что переводил он, а также то, что он хотел бы перевести, и такие же проблемы у меня очень рано возникли с Маршаком. Кстати, недавно в конце концов вышли сонеты Шекспира в моем переводе, в серии «Литературные памятники». Там пять вариантов перевода сонетов Шекспира, из переводчиков в живых только я. Модест Чайковский, конечно, Маршак. Вообще, я не считаю переводы Маршака собственно переводами, это стихотворения Маршака на темы Шекспира. И кроме того, вы знаете, я установил, что сонеты Шекспира — это не собрание стихотворений, а единое произведение, своего рода роман в сонетах, я написал об этом отдельную статью.
Есть известная статья Гаспарова, в которой он показывает, что стихи у Маршака прекрасные, но половину того, что написано в сонетах Шекспира, он упускает.
Вы знаете, Павел Григорьевич Антокольский мне сказал однажды, что перевод по самой своей природе устаревает, жизнь хорошего перевода — десять лет, а после, если это удачное поэтическое произведение, он переходит в разряд оригинальной поэзии. Маршака это, несомненно, касается. Сонеты Шекспира в переводах Маршака — это произведения Маршака. Я же пытался перевести сонеты как можно ближе к оригиналу, и мне это, вероятно, удалось — при всей их вызывающей парадоксальности. Это действительно роман, роман вполне в современном духе, о связи немолодого поэта с молодым другом, причем их связь носит несколько двусмысленный характер, на этом основаны многие сонеты. Потом появляется женщина, в которую они оба влюбляются, и в результате возникает трагическая ситуация: она разлучает их, этих двух друзей, и не соединяется ни с одним из них. Поэтому я говорю, что в основе этого произведения лежит несостоявшаяся алхимическая реакция. Там не смуглая леди, а темная леди, в алхимической реакции есть такая стадия почернения, нигредо, эта стадия почернения у Пушкина в «Руслане и Людмиле» — Черномор. Там вообще много алхимического и тамплиерского, кот ученый — это символика тамплиеров.
Откуда же Пушкин мог знать тамплиерскую символику?
Знаете, Пушкин был с масонами очень близок, и, вероятно, он в Одессе входил в масонские ложи. Тамплиеров обвиняли в том, что они поклоняются какому-то коту, это и есть кот ученый — подозреваю, такого происхождения он. У Пушкина Черномор — это стадия нигредо, а у Шекспира это темная леди, она не смуглая, она именно темная. Это потемнение, которое предшествует образованию золота, но здесь его не образуется. Трагизм сонетов в том, что женщина разлучает двух друзей, связь которых, вероятно, не безгрешна, но она не соединяется ни с одним из них. Крушение их отношений и составляет суть этого романа в сонетах. Сонет у Шекспира вроде строфы романа. Говорят, что на строфу «Евгения Онегина» повлияли сонеты Шекспира, с которыми Пушкин был знаком. Вы помните: «Суровый Дант не презирал сонета; / В нем жар любви Петрарка изливал; / Игру его любил творец Макбета; / Им скорбну мысль Камоэнс облекал». Так что сонет Шекспира Пушкину был известен, и так называемая онегинская строфа, возможно, восходит именно к сонету Шекспира.
А в других произведениях Шекспира алхимическую тематику можно найти?
Конечно, тогда ее у всех можно было найти, это было такое всеобщее мировоззрение.
Я читал, что в эпоху барокко это было очень распространено, а вот про Шекспира слышу в первый раз.
Эпоха барокко — многозначное понятие. Делез очень глубоко раскрыл суть барокко, он сказал, что барокко — это мироощущение интерьера, мир как интерьер. Барочные здания строятся на том, что они скрывают внутри себя (часто они скрывали, например, масонскую ложу или салон для тайных свиданий). Интересно, что понятия государственной границы и внутренних дел государства тоже барочного происхождения. Они появляются после Аугсбургского мира, после Тридцатилетней войны, cuius regio, eius religio. А до этого была Священная Римская империя, в Европе не существовало границ — студент мог начинать учебу в Кракове, а заканчивать в Саламанке, он мог пройти всю Европу. Куда бы он ни пришел, везде кто-то говорил на латыни — во всяком случае, священник, — и ему была открыта вся Европа. Барокко, этот барочный культ интерьера, создал проблему внутренних дел, границ, а Хлебников, как вы помните, говорил, что границы пахнут трупами. Собственно говоря, идея замкнутого поэтического произведения, конечно, барочная. Потому что до этого поэтическое произведение было открытым. Например, у Петрарки сонеты назывались «Rerum vulgarium fragmenta», фрагменты на языке volgare, то есть на итальянском. Для него это были только фрагменты, а замкнутое в самом себе произведение — это уже действительно барочная идея.