«На грани безумия у Фолкнера может оказаться любой»
Интервью с филологом Иваном Делазари
— Для многих читателей Фолкнера он по-прежнему остается сложным и малопонятным автором, поэтому давайте начнем с азов: каковы были основные литературные влияния на его творчество?
— Короткого ответа нет, но очевидно, что Фолкнер-писатель вырастает из Фолкнера-читателя. Он родился в 1897-м, умер в 1962-м, и за его жизнь сильно изменился сам путь, который приводит писателя в литературу. В 1960-х в Америке начинают появляться авторы, прошедшие школу creative writing: они учились писать, читали книги под руководством университетских наставников, изучали приемы композиции. У Фолкнера ничего подобного не было. Все писатели его поколения — Хемингуэй, например — самоучки. Жан-Поль Сартр, поклонник Фолкнера, восхищался американскими писателями 1920–1930-х годов, у которых, по его мысли, не было за плечами такой многовековой литературной традиции, как у европейцев. Из соотечественников для него были по-настоящему значимы Герман Мелвилл, Марк Твен, Генри Джеймс, Натаниэль Готорн. Кроме них — Шекспир, Достоевский, Сервантес и, конечно, Библия. Фолкнер говорил, что перечитывает эти книги каждый год. Еще можно упомянуть Бальзака, Конрада, Толстого. Любопытно, что имена конкретных писателей он при этом считал не столь важными: «Какая разница, кто из нас сочинил произведения Шекспира?» То есть Шекспир — это корпус текстов, а не человек. Так или иначе, Фолкнер существовал в очень вязкой и плотной литературной среде, а собственный творческий путь начал со стихов, придя в результате к убеждению, что состоявшийся прозаик — это неудавшийся поэт. На него оказали влияние поэты XIX века, поздние английские романтики и эстеты — Оскар Уайльд, Хаусман, Суинберн, Роберт Браунинг. Во многом он так и остался до конца жизни верен идеалам своей юности — представлению об «искусстве ради искусства».
— А из русских писателей?
— Достоевский, и особенно «Братья Карамазовы», — тот случай, когда можно привести конкретный пример: роман «Притча» (A Fable). Он вышел в 1954 году, писался долго, и Фолкнер считал его чуть ли не лучшей своей книгой. В его усадьбе в Оксфорде теперь музей — там прямо на белых стенах в кабинете написан план этого романа. Большого успеха он не имел, Фолкнеру дали по инерции Пулитцеровскую премию за него, но, строго говоря, «Притча» до сих пор толком не прочитана. Считается, что это неудача: скучно, длинно и много морализаторства. У Фолкнера есть нобелевская речь на одну страницу со знаменитым финалом — «человек выстоит и победит», и считается, что роман «Притча» — растянутая на сотни страниц версия этого риторического высказывания. Так вот, один большой эпизод этого романа — переработка «Легенды о великом инквизиторе» с фигурами без имен: старый генерал, уподобленный Великому инквизитору, и капрал как вернувшийся на землю Христос...
— В творчестве Фолкнера силен мотив национальной трагедии — как он ее себе представлял? И почему ее художественное осмысление у него тесно связано с безумием?
 Иван Делазари
Иван Делазари
— У Фолкнера эти темы не совпадают, скорее накладываются одна на другую. Тема безумия восходит к трагедиям античности. Это линия, которая тянется от древних греков и через Шекспира приходит к нему. Например, в романе «Шум и ярость» (название, как известно, взято из шекспировского «Макбета») безумие героев предопределено, оно в порядке вещей, это изъян, предначертанный судьбой. Что касается американской трагедии, то для Фолкнера это Гражданская война 1861–1865 годов и поражение южан, которое они мыслят в терминах романтической литературы: все должно быть загадочно, благородно и красиво. А у Фолкнера некрасиво. Поэтому сам писатель был крайне непопулярен у себя дома. Его земляки, не читая его, твердо знали, что он опозорил Юг своими произведениями, изобразив безумие, инцест, вырождение, — одним словом, очернил родной край.
— Такое ощущение, что Фолкнера специально интересовала патология. Почему?
— Наверное, поверхностный и очевидный ответ в том, что такие вещи случаются, просто на Юге это не принято обсуждать, тем более — писать романы, в которых фигурируют насильники-импотенты, самоубийцы и умственно отсталые. Действительно, почему Фолкнер написал не «Унесенных ветром», а «Шум и ярость»? Маргаретт Митчелл — современница Фолкнера, и ее бестселлер был написан одновременно с его, возможно, главным романом, «Авессалом, Авессалом!», в 1936 году. Митчелл имела оглушительный успех, воссоздав безумно привлекательный образ старого Юга: магнолии в цвету, дома с белыми колоннами, подвиги, любовь, обреченная на поражение борьба за сохранение привычного образа жизни, а у Фолкнера получается, что после этого всего люди оказываются заложниками чудовищных иллюзий и страхов, рождающихся из несоответствия между собственным положением и вбитыми в голову с детства «идеалами» — стереотипами о том, как все на Юге должно быть устроено. Сейчас, конечно, многое позади, но тени предков по-прежнему витают над штатом Миссисипи и вокруг, символика и мифология Конфедерации остается популярной.
Для южанина, который верит в мантру «мы были правы, хотя и проиграли» и который, как сам Фолкнер, является носителем этой культуры, происходящее в его романах не объясняется в терминах девиации, патологии, потому что не ясно, в чем состоит норма. Бенджи и семья Компсонов из «Шума и ярости», готика «Святилища» и финал «Света в августе» — линчевание Джо Кристмаса при взгляде извне кажутся абсолютной дикостью. В XIX веке Марк Твен во всем обвинил исторические романы Вальтера Скотта: мол, начитавшись их, белые южане решили, что они тоже благородные рыцари, оберегающие прекрасных дам, и должны вести себя как шотландские горцы или крестоносцы. Страна дон кихотов. В произведениях Фолкнера раскрывается сложность, травматичность и внутренняя конфликтность представлений, стоящих за южным мироощущением, потому что его герои не живут в мире Скотта и не могут этого не осознавать. Это не просто патология, это вполне универсальная ситуация.
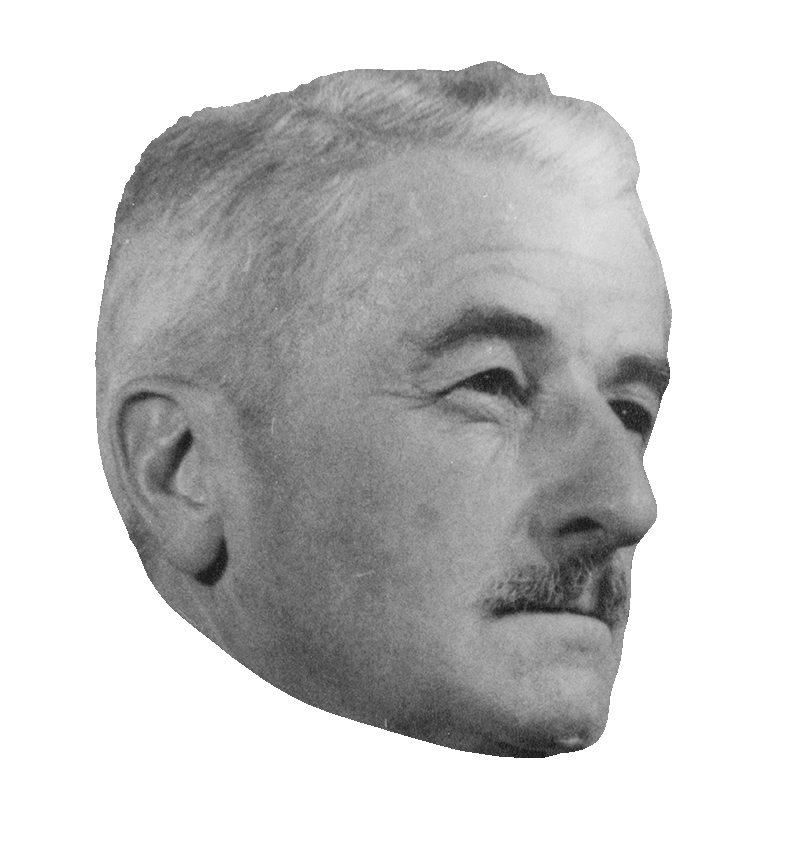 — Другая хрестоматийная фолкнеровская проблема — это проблема времени.
— Другая хрестоматийная фолкнеровская проблема — это проблема времени.
— Критики и фолкнероведы всегда выделяют эту тему, и нет нужды быть литературоведом, чтобы обратить внимание на ее значимость. Вторая часть «Шума и ярости», написанная от лица Квентина, содержит навязчивый мотив часов и воспроизводит обостренное ощущение героем текучего, растягивающегося и схлопывающегося времени. А если мы сравним четыре части романа между собой, то заметим, что время в каждой из них идет по-разному. Время — краеугольная категория опыта, нечто, в чем мы существуем и из чего не можем вырваться. И это литературная проблема — как словами воссоздать опыт проживания времени? Если говорить о фолкнеровской специфической постановке этой проблемы, можно опять обратиться к вышеупомянутому Сартру, написавшему статью «Категория времени у Фолкнера». Сартр из Фолкнера делает чуть ли не хайдеггерианца. В статье есть любопытное описание фолкнеровского времени: по дороге мчится машина, в ней сидят люди спиной по направлению движения. Фары высвечивают какие-то фрагменты мира, сразу скрывающиеся во тьме, и пассажиры не видят, что впереди — в этом смысле будущего нет, есть только прошлое, но даже и его нет, потому что оно мгновенно пропадает в ночной мгле. Это довольно точный читательский образ — именно на таком аттракционе можно покататься, вчитываясь в Фолкнера.
— Расскажите в двух словах о мировоззрении Фолкнера. Сильно ли оно отличается от того, что описывается в стандартных вузовских учебниках?
— Картонно-типажных Фолкнеров несколько. В учебниках обычно дается биография, сообщается, что его прадедушка был полковником в Гражданской войне, который собрал свой полк, затем идет стандартный нарратив про знакомство с Шервудом Андерсоном, приводится его совет: «Пиши про то, что знаешь», после чего Фолкнер принимается писать о Юге. И все венчается указанием на гуманистическое мировоззрение с цитатами из нобелевской речи. Но если и другая картонная, еще более карикатурная версия, у нас менее популярная — «Фолкнер в Голливуде». У него в биографии есть довольно значительный эпизод, даже серия эпизодов, когда писатель, чтобы заработать, служил в Голливуде сценаристом. Написал несколько удачных сценариев, но больше неоконченных и неудачных, очень многого не написал из обещанного, поскольку страшно пил или, наоборот, пил, потому что не написал. Такой картонный Фолкнер возникает в фильме братьев Коэнов «Бартон Финк»: там персонажа зовут иначе, но актер очень на Фолкнера похож, почти двойник. И получается не гуманист, а неуравновешенный гений-алкоголик, болезненно сосредоточенный на себе. Если приехать в Оксфорд, в доме-музее Фолкнера хранитель (не знаю, возможно, он сменился с тех пор, как я там был) может провести вас в тайную комнатку, где стоит батарея пустых бутылок, якобы выпитых хозяином. Какое здесь мировоззрение?
Мировоззрение писателя транслируется через его книги. Прозаики фолкнеровского типа — демиурги, творцы миров. Их мировоззрение в этом смысле — не взгляд на реальный мир, которым обладает реальный человек, а способность видеть эти воображаемые миры, создавая их. Фолкнер создал округ Йокнапатофу, а еще у него есть «Притча», где вообще абстрактный мир, евангельский. Разные миры предполагают разные мировоззрения, но если мы шагнем на уровень персонажей, то поймем, что там происходит самое интересное — взаимодействие между мировоззрениями разных персонажей. Специфика авторов такого типа — создание массы альтернативных мировоззрений. Каждый персонаж значим, все они — носители отдельных мировоззрений, и эти мировоззрения находятся не просто во взаимодействии, а в конфликтных отношениях. Не бывает так, чтобы складывался общий хор, кто-то обязательно фальшивит, поет не в унисон. С тем, чтобы очертить множество мировоззрений в рамках художественного мира, у Фолкнера все в порядке.
— А можно ли выделить основные типы мировоззрений, которые переходили у Фолкнера из романа в роман?
— Скорее не типы, а сами мировоззрения. Думаю, что да, йокнапатофский цикл на то ведь и цикл, что его герои могут появляться в разных произведениях. Тот же Квентин Компсон фигурирует в качестве героя-рассказчика в двух больших романах — «Шум и ярость» и «Авессалом, Авессалом!», — а еще в двух рассказах. Причем идентичность Квентина на уровне личности не устанавливается, там есть противоречия. Грубо говоря, ему не могло быть столько лет тогда-то, потому что в другом произведении было то-то и то-то: есть внешние нестыковки, но одно и то же мировоззрение мы ему можем приписать — «вчитать», исходя из того, что перед нами один и тот же герой.
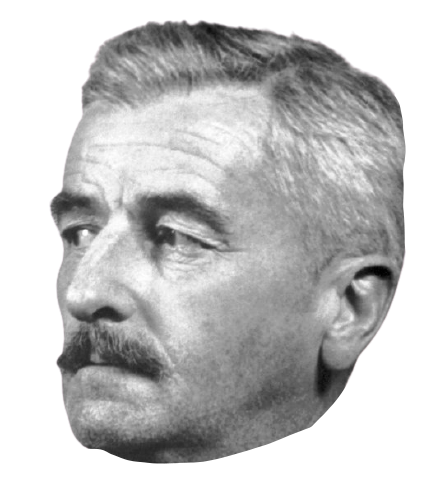 В отличие от писателей-реалистов и натуралистов XIX века, Фолкнера не интересовали типы. Есть Квентин, есть Бенджи, есть Лина Гроув, Баярд Сарторис, Флем Сноупс. Мы можем называть разных героев, проводить параллели. У Нормана Мейлера есть эссе «Белый негр» — на самом деле это один из фолкнеровских образов: выглядит как белый, но у него есть доля негритянской крови, и об этом узнают. В романе «Свет в августе» это Джо Кристмас, причем про него до конца неизвестно, так ли это, но его линчуют в конце романа как негра, который убил белую женщину. И в романе «Авессалом, Авессалом!» есть такой герой — Чарльз Бон, незаконнорожденный сын, и такой же сюжет. Или чернокожая няня и весь комплекс связанных с нею мотивов: Дилси в «Шуме и ярости», Нэнси в «Реквиеме по монахине». Необязательно в каждом романе будет подобная фигура, не стоит ожидать одинакового набора типажей в разных текстах Фолкнера. Но конфликты, порождаемые введением того или иного персонажа, могут действительно повторяться. Потому что он в этом мире не один.
В отличие от писателей-реалистов и натуралистов XIX века, Фолкнера не интересовали типы. Есть Квентин, есть Бенджи, есть Лина Гроув, Баярд Сарторис, Флем Сноупс. Мы можем называть разных героев, проводить параллели. У Нормана Мейлера есть эссе «Белый негр» — на самом деле это один из фолкнеровских образов: выглядит как белый, но у него есть доля негритянской крови, и об этом узнают. В романе «Свет в августе» это Джо Кристмас, причем про него до конца неизвестно, так ли это, но его линчуют в конце романа как негра, который убил белую женщину. И в романе «Авессалом, Авессалом!» есть такой герой — Чарльз Бон, незаконнорожденный сын, и такой же сюжет. Или чернокожая няня и весь комплекс связанных с нею мотивов: Дилси в «Шуме и ярости», Нэнси в «Реквиеме по монахине». Необязательно в каждом романе будет подобная фигура, не стоит ожидать одинакового набора типажей в разных текстах Фолкнера. Но конфликты, порождаемые введением того или иного персонажа, могут действительно повторяться. Потому что он в этом мире не один.
— Каковы, на ваш взгляд, основные черты стиля Фолкнера?
— Очень специфический язык. Его часто называют непереводимым, речевые характеристики теряются в переводах на русский язык и на прочие также. Своеобразная лексика, грамматика. Речь рабов и бывших рабов сильно отличается, и эти нюансы в переводе теряются. Странно было бы пытаться передать такое русским диалектом, поэтому переводчики обычно просто нивелируют, нейтрализуют подобные вещи (то же происходит и с переводами русских писателей, Достоевского, например, чей стиль, выровненный и сглаженный переводчицей Констанс Гарнетт, Фолкнер не мог особо оценить).
Я читал почти всего Фолкнера в оригинале и, поскольку маловато об этом знал, ничего и не замечал — в том смысле, что если ты не представляешь, как это звучит, то для тебя и не зазвучит. Длинные предложения как противовес хемингуэевским коротким. Синтаксическая вязь, связанная с тем, что авторская речь всегда следует за мыслью, и иногда это еще и мысли персонажей. Фолкнер очень интроспективен, все подается через сознание героев. Его длинные предложения следуют за мыслью, а мысль не имеет точек и запятых, она течет, вяжется или не вяжется, передергивает.
Что касается сюжетов, интересный вопрос: является ли экстремальная ситуация или экстремальный персонаж обязательным элементом фолкнеровского текста? Если брать безумие, то нет, но на грани безумия может оказаться любой. Например, тот же Джо Кристмас думает, что он негр, хотя наверняка этого нельзя знать. Однако герои словно подхватывают его мысли, его самоощущение, и затем происходят чудовищные вещи. Причем сначала они происходят только с ним: его мысль материализуется, выходит за пределы его «я», становится чужой и невыносимой, и он совершает убийство, а затем его ловят и убивают. И вот эта игра, взаимные переходы внешнего и внутреннего, тоже может быть отмечена как характерная черта фолкнеровского повествования. Сюжет движется внутренними побуждениями героев, которые имеют определенную степень самостоятельности. Фолкнера спрашивали студенты: «Почему такая-то героиня сделала то или это?», а он отвечал: «Не знаю, может быть, потому-то». С одной стороны, он иронизировал, с другой, подчеркивал, что его герои свободны (в том числе и от него самого).
— Какие фолкнеровские тексты лично вам наиболее дороги и почему?
— «Шум и ярость» на первом месте, потому что это первое, что я прочитал. Книга на меня произвела сногсшибательное впечатление, невозможно было оторваться. Еще из ожидаемого «Авессалом, Авессалом!» — самый сложный и самый сильный роман Фолкнера. Если «Притча» сложна для чтения, поскольку откровенно скучна, то «Авессалом, Авессалом!» очень сложно написан, там ничего невозможно понять, но это потрясающе. «Шум и ярость» и «Авессалом» для меня на первом месте, а из неожиданного я бы назвал рассказ «Нога», примечательный тем, что по нему снят советский фильм 1991 года. Это первая роль Ивана Охлобыстина, там играет Петр Мамонов, вместо Первой мировой, как у Фолкнера, там советско-афганская война 1980-х, масса других изменений, но рассказ преображается благодаря фильму. И еще роман «Дикие пальмы»; он состоит из двух ничем не связанных сюжетов, я перечитывал его после большого перерыва — после того как долго не читал Фолкнера, — и он меня просто сразил. Эта фолкнеровская писательская хватка ощущается физически.
— Не так давно издательство Common Place переиздало знаменитую повесть Фолкнера «Медведь», сопроводив ее текстом, в котором обсуждаются анархо-примитивистские взгляды писателя. Имеет ли основания такой подход, на ваш взгляд? Уместно ли было бы какие-нибудь еще тексты Фолкнера схожим образом переиздать и реконтекстуализировать?
— Десять лет назад я поразился количеству американских марксистских прочтений Фолкнера. Это связано с определенными тенденциями в академической культуре США, там масса работ появлялась и сейчас еще появляется, в которых Фолкнер прочитывается с таких позиций. Именно в силу того, что эти тексты предполагают перечитывание, их можно повернуть и прочесть с разных политических позиций и привязать к любой актуальности — «Медведя» к экологическому протесту, например. В этом залог их живучести: они могут быть перечитаны, все равно как если бы они были переписаны. Новый смысл, который в них обнаруживается, не имеет отношения к Фолкнеру, но это такой способ литературы существовать и репродуцироваться во времени, рождаться заново из пепла, потому что актуальность всегда быстро проходит. «Медведя» в Советском Союзе много раз перепечатывали, потому что он безобидный, это повесть о воспитании молодого человека, про охоту, что-то в ней есть народное, идеологически нечуждое (при том что Фолкнер был антикоммунистом, конечно, и ехать в СССР отказался). Но мне важно подчеркнуть, что эти тексты перечитываются и переписываются самим временем, уже без авторского участия.
— Если бы вы встретились с Фолкнером, какой вопрос вы бы хотели ему задать?
— Я об этом никогда не думал, сейчас попробую сообразить. Я бы спросил, какую музыку он любит. Понятно, что в Новом Орлеане, где он часто подолгу бывал в молодости, был джаз, и это его обволакивало. С классической музыкой он в общем не связан, но это не значит, что она для него не существовала, и мне бы хотелось узнать, имела ли музыка для него какое-то значение. Про это, кажется, ничего не написано и толком ничего не известно.