Мстители и Реформация
Как писать историю фантастики
С 9 по 12 августа будет проходить очередная
Василий Владимирский: Сегодня у нас в гостях не просто писатель, не просто лауреат крупнейших жанровых премий, но и специалист по фантастике, который написал как минимум две книги по истории научной фантастики, а сейчас работает над историей фэнтези. Почему это актуально для отечественной фантастики, отечественного фантастиковедения, отечественного литературоведения? Потому что мы сейчас находимся на том этапе, когда начинают появляться обобщающие книги. И мне кажется, что сейчас корпорация исследователей фантастики находится на пороге создания какого-то обобщающего, глобального труда. Хотелось бы спросить у человека, который это уже сделал, который знает подходы: что делать, куда бежать и как поступать с накопившимся массивом информации?
Адам Робертс: Это очень хороший вопрос. И я хотел бы сам знать на него ответ. Когда пишешь историю научной фантастики, невозможно обсудить каждый фантастический текст, потому что их слишком много. Так что вам нужен принцип отбора, нужно каким-то образом понять, на чем вы основываете эту выборку: может быть, это наиболее коммерчески успешные и популярные работы? Или, наоборот, это работы, наиболее интересные с эстетической и художественной точки зрения? Или, может, это должны быть мои романы? Можно написать историю научной фантастики, в которой на первом плане, в центре внимания, будут мои собственные романы как наиболее важные.
Николай Караев: Мы все-таки говорим об истории русской литературы.
Адам Робертс: Когда я начал писать свою книгу об истории научной фантастики, то первым делом мне пришлось спросить себя: а когда собственно появилась научная фантастика? Существуют четыре ответа на этот вопрос. Некоторые теоретики, их не очень много, думают, что научная фантастика начинается в глубоком прошлом, в Древней Греции. С Плутарха. Но это взгляд меньшинства. Дальше идут три более популярные версии. Есть те, кто считает, что научная фантастика начинается с «Франкенштейна» Мэри Шелли. Это готический роман, он появился вскоре после Французской революции как одно из ее последствий. Это, к примеру, точка зрения Брайана Олдисса. Шелли рассказывает об ученом, чьи эксперименты заходят слишком далеко, о непредвиденном влиянии науки на мир. Есть и те, кто думает, что научная фантастика начинается с Жюля Верна и Герберта Уэллса. И есть, наконец, исследователи, для которых она началась в 1927 году с Хьюго Гернсбека, который придумал словосочетание «научная фантастика». Он называл ее scientifiction, «научнофантастика», что довольно громоздко, но именно тут появляется термин. Если вы говорите, что НФ появилась в 1927 году, значит, это довольно юный жанр, он еще только встает на ноги, он говорит о современности, о том, что происходит прямо сейчас. Если вы обращаетесь к XIX веку, значит, вы говорите, что фантастика чуть старше, и к тому же у вас больше текстов, с которыми придется иметь дело. А если вы смотрите на Древнюю Грецию, тогда вы на самом деле говорите, что история научной фантастики — это история вообще всего. А это делает написание ее истории гораздо сложнее.
Василий Владимирский: В Советском Союзе среди литературоведов, которые изучали фантастику профессионально, широко была распространена точка зрения, что ее корни действительно уходят в Античность, как минимум к Откровению Иоанна Богослова, — это, собственно, научная фантастика, прогноз, футурология. Такова была, наверное, главенствующая точка зрения. Кроме того, писателям-фантастам довольно сильно льстило, что Лукиан и Александр Казанцев, по сути, коллеги. Андрей Дмитриевич Балабуха, присутствующий здесь фантастиковед и критик, рассказывал такую замечательную историю. Когда к нам на «Интерпресскон» в девяностые годы приезжал Гарри Гаррисон, они встретились где-то в лифте. Балабуха представился, и Гаррисон на него набросился, заключил в объятия и расцеловал в обе щеки. Выяснилось, что когда-то Андрей Дмитриевич написал небольшое предисловие к одной из книг Гарри Гаррисона и это предисловие перевели на английский язык. А Балабуха как раз придерживается точки зрения, что корни фантастики уходят в Грецию, и, собственно, поставил автора «Стальной крысы» в один ряд с Лукианом и Плутархом. Гаррисону это очень польстило. Но на самом деле мне кажется, что у российской и советской фантастики есть очень удобный рубеж, от которого можно плясать. У нас была Великая октябрьская социалистическая революция. И большинство современных специалистов в общем-то от семнадцатого-восемнадцатого года и пляшут. Тем не менее, хоть это и очень молодой жанр, все равно получается очень большой массив информации, и, как отсечь лишнее, оставить только необходимое, мне сложно представить.
Адам Робертс: А планируется написать историю именно русской фантастики? Тогда я как раз тот человек, которого нужно спрашивать. Я ничего про нее не знаю, так что буду совершенно непредвзят. Хотя есть четыре основные точки зрения критиков о том, где началась научная фантастика, я, когда писал свою историю фантастики, предложил пятую. Мне не кажется, что имеет смысл видеть НФ в Откровении Иоанна Богослова. Это магия, а значит — фэнтези. Я могу принять точку зрения, что фэнтези — изначальный способ рассказывания историй, что человеческие истории почти всегда включают в себя что-то волшебное или сверхъестественное, нуминозное или религиозное, а реализм — это исключение, а не правило. Но мне кажется, что научная фантастика — это нечто другое, поэтому я предположил, что научная фантастика происходит из протестантской Реформации, и это связано с тем, что идеи о возвышенном и чудесном, которые содержались в религиозных текстах, превратились в материалистические и стали частью мира науки, а не религии. Так что католический писатель — Дж. Р. Р. Толкин, например — видит мир как волшебное место и пишет фэнтези. Автор научной фантастики, такой как Герберт Уэллс, обладает протестантским воображением, он стремится рационализировать.
Василий Владимирский: Все-таки я хотел бы вернуться к цифрам. Понятно, что работа и по научной фантастике, и по посттолкиновскому фэнтези строится на более ранних исследованиях. А какова критическая масса этих работ, сколько нужно прочесть, чтобы сделать аргументированный обобщающий вывод?
Адам Робертс: Хороший вопрос. Невозможно прочитать все, разве что у вас найдется маховик времени, как у Гермионы Грейнджер в «Гарри Поттере», а его нет ни у кого из нас. Поэтому вам нужно найти принцип отбора. Цель чтения критиков и теоретиков — быть в курсе критического обсуждения. И я думаю, что, прочитав десять-пятнадцать критических работ о Толкине, начинаешь понимать, на какие лагеря делятся его исследователи. На Западе у научной фантастики есть преимущество — вторичных источников о научной фантастике и фэнтези относительно немного. Есть множество фэнских работ, которые любопытные и заслуживают внимания, но ситуация не такая, как с изучением Шекспира. В моем университете докторанты два года из четырех проводят, читая все, что написано о том аспекте творчества Шекспира, который они изучают. Есть целые библиотеки одних только критических работ о Шекспире, Гете или Гомере. А о НФ — нет. Это потому, что научная фантастика лишь недавно стала уважаемой. Ее начали ценить в научных кругах в то время, когда я уже работал в университете. А впервые я устроился туда в 1990 году. И получил престижную должность профессора литературы XIX века, специалиста по романтической и викторианской литературе, а заодно мне позволили преподавать научную фантастику. Теперь людей нанимают благодаря их познаниям в НФ и фэнтези. Но это довольно новое явление, поэтому мир критики кажется маленьким. Полагаю, что в России ситуация не сильно отличается.
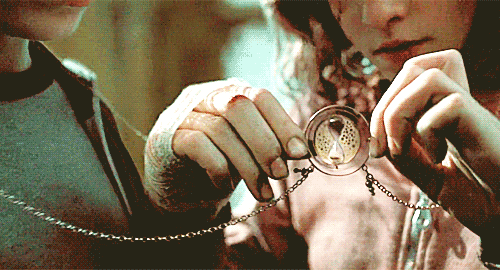 Василий Владимирский: Наш коллега Алексей Караваев полагает, что у российского фантастиковедения по сравнению с англо-американским еще большие проблемы. То есть критики, монографий, исследовательских статей в последние годы меньше. Алексей написал книгу с историческими очерками о двух советских книжных сериях, одном журнале и одном жанре — научно-фантастический очерк. Всего четыре темы, а серий у нас было гораздо больше. Его следующая книга вышла в полтора раза толще и посвящена всего одному журналу. Сейчас у него в работе третья книга. То, о чем пишет Караваев, — это в основном забытые авторы, забытые редакторы, забытые художники. Но, обращаясь к какому-то крупному явлению вроде Толкина или Стругацких, не рискуем ли мы потерять что-то интересное, выплеснуть ребенка вместе с водой?
Василий Владимирский: Наш коллега Алексей Караваев полагает, что у российского фантастиковедения по сравнению с англо-американским еще большие проблемы. То есть критики, монографий, исследовательских статей в последние годы меньше. Алексей написал книгу с историческими очерками о двух советских книжных сериях, одном журнале и одном жанре — научно-фантастический очерк. Всего четыре темы, а серий у нас было гораздо больше. Его следующая книга вышла в полтора раза толще и посвящена всего одному журналу. Сейчас у него в работе третья книга. То, о чем пишет Караваев, — это в основном забытые авторы, забытые редакторы, забытые художники. Но, обращаясь к какому-то крупному явлению вроде Толкина или Стругацких, не рискуем ли мы потерять что-то интересное, выплеснуть ребенка вместе с водой?
Адам Робертс: Для этого в моей профессии есть специальный термин — «канон». Некоторые работы входят в канон, некоторые нет. И это довольно бурно обсуждается в западных университетах в последние двадцать пять лет. Не в связи с научной фантастикой, а в общем. Канон — это что-то отобранное, и главный вопрос — кто отбирает. В конце восьмидесятых в британских и американских университетах был большой шум из-за того, что все изучаемые ранние примеры романа как формы были написаны мужчинами. Генри Филдингом, Даниэлем Дефо, Сэмюэлем Ричардсоном, Чарльзом Диккенсом, Теккереем — всеми этими великими белыми мужчинами. Феминистки посмотрели на этот канон и сказали: есть буквально тысячи романов, написанных женщинами еще до начала XIX века, и многие из них очень интересны, и единственная причина, по которой они не в каноне западной литературы, — отбор, производившийся мужчинами. Прорывом стала книга, названная «Матери романа»: сотня хороших писательниц, предшествовавших Джейн Остин. Остин — символическая женщина в западном каноне: смотрите, мы не сексисты, мы считаем, что Джейн Остин очень хороша, но все остальные авторы, которых мы изучаем, — мужчины. А есть сотня хороших романисток, каждая из которых написала десятки книг. Этих книг тысячи — больше, чем кто-либо может прочитать. И это вопрос уже не критики, а метакритики: как мы отбираем то, что отбираем? Потому что есть непреложный факт: всего не прочитаешь, всего не включишь. Я пишу книги, и я люблю книги: они тяжелые, и ими можно бить людей; но, возможно, будущее критики — это не книга, а гораздо более широкие возможности интернета, потому что в нем нет ограничений на количество слов или иллюстраций. Единственное ограничение — это количество времени, которое у вас есть на работу. Возможно, это не ответ на вопрос, но это точка, с которой можно начать.
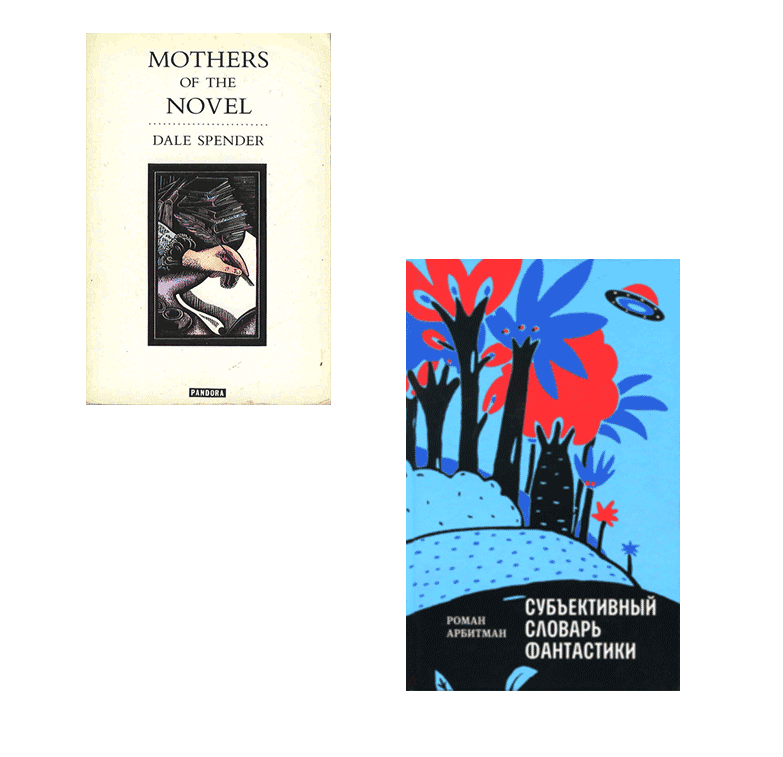 Василий Владимирский: А возможна ли вообще объективность в исследовании литературы? Например, один из наших гостей, Роман Эмильевич Арбитман, только что выпустил «Субъективный словарь фантастики». Это не постмодернистская шутка, которые он вообще очень любит, а попытка серьезно поговорить о фантастике. Слово «субъективный» совершенно не случайно — там, например, нет ни одной статьи о Лукьяненко, хотя это крупное явление в нашей литературе. Можно ли так поступать или ученый все-таки обязан фиксировать все явления литературной жизни?
Василий Владимирский: А возможна ли вообще объективность в исследовании литературы? Например, один из наших гостей, Роман Эмильевич Арбитман, только что выпустил «Субъективный словарь фантастики». Это не постмодернистская шутка, которые он вообще очень любит, а попытка серьезно поговорить о фантастике. Слово «субъективный» совершенно не случайно — там, например, нет ни одной статьи о Лукьяненко, хотя это крупное явление в нашей литературе. Можно ли так поступать или ученый все-таки обязан фиксировать все явления литературной жизни?
Адам Робертс: Когда люди говорят, что любой вкус субъективен, с этим сложно спорить. Можно предположить, что честнее всего сказать: мне не нравится творчество Харлана Эллисона. Многие его любят, и он совсем недавно умер, я не хочу говорить о мертвом плохо, но мне никогда не нравилось его творчество. Однако мне сложно отрицать, что, поскольку так много людей любят его книги, в этих текстах что-то есть. И хотя нет кантианских объективных критериев хорошего вкуса, которым нам приходится следовать, я думаю, что Толкин как автор фэнтези лучше, чем Стивен Дональдсон. Я думаю, что Толстой — писатель лучший, чем Дэн Браун. Я думаю, что Китс — лучший поэт, чем Бритни Спирс или те, кто пишет ей тексты. Проблема в том, что, если вы мне скажете: «Докажи это, приведи железобетонный аргумент, что это так», мне будет сложно это сделать.
Я пишу прозу, и я пишу критику. В моей жизни есть и другой дуализм: я общаюсь с учеными, я посещаю научные конференции, но еще я общаюсь с поклонниками фантастики и посещаю фантастические конвенты. И мне кажется, что у этих двух групп людей одинаковый уровень компетентности. Фэн «Звездного пути» знает о «Звездном пути» столько же, сколько мои коллеги-шекспироведы знают о Шекспире. Но их приоритеты иные. Дело не в субъективности вкуса, а в том, какие вещи им интересны. По моему опыту, поклонников фантастики очень волнует вопрос непротиворечивости текста, то, что мы называем «миропостроением». Почему в общем мире «Звездного пути» у клингонов из оригинального сериала лбы гладкие, а в «Новом поколении» и последующих сериалах — с бороздками? Как такое может быть, разве это не одна и та же инопланетная раса? А потом фанаты начинают сооружать запутанные объяснения, почему это так: якобы клингоны в оригинале — это особый подвид, который вывели, чтобы проникнуть на территорию человечества. А настоящая причина — в том, что логика изображения инопланетян в шестидесятых и восьмидесятых была разной. Это словно задать вопрос: «Как может Джеймс Бонд одновременно выглядеть как Шон Коннери и как Дэниэл Крейг? Они же совершенно разные люди, как такое возможно? Как можно взять чернокожего актера на роль Бонда, он же не чернокожий?» Это восприятие текста как чего-то строящегося по тем же правилам, что и реальность, а не как текста, в котором отображение условно. Ученых гораздо больше интересует условность отображения. А фэнам интересно воспринимать текст как артефакт реального мира.
Вчера мы говорили о законе Старджона [всё иногда идет не так, как хотелось бы]. Как отбирать тексты для исследования? Можно сказать, что девяносто восемь процентов научной фантастики — дерьмо. Девяносто восемь процентов чего угодно — дерьмо, поэтому мы будем исследовать только два процента. Но тогда мы возвращаемся к вопросу о субъективности. То, что для вас — дерьмо, для меня может им не быть. Разница в том, что фэн может сказать: «Я посмотрел „Мстителей”, они крутые». А ученому придется сказать: «Они крутые, потому что». Обычно это связано с включением этой работы в общий дискурс.
 Василий Владимирский: То есть отбирать будет тот, кто будет писать историю фантастики.
Василий Владимирский: То есть отбирать будет тот, кто будет писать историю фантастики.
Адам Робертс: Это очень жестоко. Так вот, разница лежит между очарованностью внутритекстовыми деталями, спецификой того, что происходит в тексте, и взглядом на контекст, на то, как текст встраивается в общую схему вещей. Большинство ученых-критиков занимаются вторым. Когда я выстраивал свою историю научной фантастики и понял, где она начинается, это дало мне каркас и параметры текстов, которые я должен был отобрать. Я не хотел исключать работы, которые очевидно важны и высоко оценены другими, но меня интересовало, как религиозные идеи перерабатываются в материалистические формы. И в своей истории я предполагаю, что в научной фантастике постоянно возникают одни те же темы, а возникают они потому, что мы до сих пор ведем теологические споры, те же, что и во времена Реформации. Так, научная фантастика особенно одержима трансцендентностью и чудесным, она одержима фигурами спасителей, обладающих магическими силами, которые приходят на помощь человечеству, как Супермен или Нео из «Матрицы». Во многих фантастических произведениях есть подобные персонажи. И я думаю, что это не случайность, а часть нарратива. Опасность состоит в том, что если отбирать только тексты, иллюстрирующие мою точку зрения, а остальные игнорировать, то идеальный историк скажет: «Нет, у тебя должны быть все данные, нельзя отбирать только то, что тебе подходит». И, должен сказать, мне кажется, моя «История…» не очень хорошо работает потому, что я попытался вместить слишком многое, слишком большое количество примеров. Так что если вы попытаетесь ее прочитать… ну, во-первых, она на английском, а не на русском, — это будет трудно, но еще там приведены тысячи и тысячи конкретных примеров. Она превратилась в мешанину, книгу-пудинг. Думаю, что, когда я начну писать историю фэнтези, я сделаю это по-другому, я не напишу «Субъективную историю фэнтези», но скажу, что она выборочна, что мы считаем вот эти тексты более значимыми по вот этим причинам. Вы правы, я действительно нахожусь в сильной позиции. Но с большой силой приходит большая ответственность.
А если бы я собирался написать историю русской научной фантастики, я бы сделал три вещи. Во-первых, научился бы говорить по-русски. Во-вторых, провел бы несколько лет за чтением максимально возможного количества русских фантастических текстов начиная с, как вы сказали, 1917 года и до настоящего дня. То есть примерно за сто лет. Это, я думаю, заняло бы много времени. А потом я решил бы, каким будет мой основной тезис. И, исходя из своего взгляда на научную фантастику как критика, я искал бы самые важные работы — такие как «Пикник на обочине» Стругацких. Это потрясающая повесть, и из нее получился еще более великий фильм, мне кажется, один из лучших в мире. Я пересматриваю его снова и снова. Когда я начал встречаться со своей будущей женой, я сказал: «Есть такой фильм Тарковского, „Сталкер”, и это, наверное, самый мой любимый фильм». Она сказала: «О, я бы хотела его посмотреть!» Я включил «Сталкера», мы стали его смотреть, пятнадцать минут спустя я взглянул на нее и увидел, что она уснула. Она так и не досмотрела фильм, и я не смог ее заставить. Он очень медленный, и в этом суть, он и должен быть медленным. Так вот, для меня «Пикник на обочине» — это история мира, который был покинут высшими силами, и теперь мы копошимся в обломках. Это история об уходе бога. Советский Союз был первой попыткой создания атеистического государства. Даже Французская революция, хоть и пыталась устранить католическую церковь, не предлагала атеизма, у них был культ Верховного Существа. И хотя теперь мы можем оглянуться в прошлое и сказать, что попытка не вполне сработала, но она породила интересные конфликты в головах людей, выросших в этой системе. В «Короле Лире» есть реплика Глостера: «Мы для богов — что для мальчишек мухи. Нас мучить — им забава». Мы не более чем мухи, а боги — это такие мальчишки, которые бьют нас без всякой причины, все это бессмысленно и пусто. Он мне кажется очень протестантским автором, Шекспир. А «Пикник на обочине» — это научно-фантастический вариант той же идеи. Только никаких богов не осталось, поэтому боги теперь — инопланетяне, а инопланетяне улетели.
Перевод и расшифровка Николая Караева и Романа Демидова