«Мою библиофилию можно назвать стоической»
Людмила Бредихина о любви к случайным книгам, феминизме и Дмитрии Писареве
Вы известны в первую очередь как художественный критик и специалист по гендерным исследованиям, но оканчивали филологический факультет?
Я окончила филологический факультет МГУ в самом конце 1970-х. Сначала училась на «сильном» курсе вместе с Андреем Немзером, Николаем Зубковым, Юрой Слезкиным, а потом вышла замуж, родила, так что доучивалась на следующем. Занималась литературоведением на русском отделении и очень скоро разочаровалась в этом занятии. Конечно, в программе были Шкловский, Бахтин, структурализм, но не так много, как хотелось бы, а в основном какие-то Храпченки и соцреализм, навязший в зубах. С тех пор у меня осталось ощущение, что гуманитарные науки не совсем науки. «Литературоведение» в лучших образцах — практики чтения, а в худших — переливание из пустого в порожнее. Мой первый муж был лингвистом-компаративистом, знал языки, и я ему завидовала: люди делом занимаются, этимологические словари составляют. Я настолько тогда разочаровалась в литературоведении, что хотела бросить учебу и уехать в Набережные Челны (почему именно туда, уже не помню). Всю жизнь я хотела редактировать тексты. У меня было убеждение, что абсолютно любой текст можно сделать лучше. И тут мне повезло, потому что партия и правительство издали указ о том, что у нас в стране плохо с литературной критикой и пора заняться ею всерьез. Поскольку я была в профессиональных исканиях, ломанулась первой в семинар по литературной критике. Его вела Светлана Николаевна Лиманцева, ученица Бонди. Она не очень светилась на факультете, а потом и вовсе куда-то исчезла. Конечно, программы никакой не было, все придумывалось на ходу, начали с Чернышевского, темы курсовых назначали себе сами. Я писала о зарождении понятия «психологический анализ» в разных изводах российской критики XIX века на материале раннего Толстого в основном, о том, как он умел проникнуть в психологию воробья и как сильно всех удивил. О психологическом анализе и диплом писала.
Филфак прекрасен прежде всего общением. Помнится, после защиты прослезилась от удовольствия, так как председатель комиссии сказал, мол, есть люди, которые пишут лучше, чем говорят, а есть и наоборот, указав на себя. Скорее всего, это означало, что говорила я хреново, но я все равно ликовала, потому что председателем был Николай Иванович Либан, легендарный человек для филологов моего поколения.
Но продолжать учебу в аспирантуре вы не стали?
Меня тогда с Толстым и воробьями рекомендовали в печать и аспирантуру, но мы с мужем уехали в глухую деревню работать в сельской школе, где провели шесть с половиной лет. Это был первый год, когда студентов никуда не распределяли. С одной стороны, мы были этому рады, потому что могли найти работу ближе Юкагирского плато, а с другой стороны, мы, не москвичи, оказались предоставлены самим себе. В результате нам дали большой дом в деревне, и мы начали работать в малокомплектной школе, где в классе было от трех до десяти учеников с очень разным уровнем развития. Девочка из шестого класса писала хорошие стихи, а парень из восьмого так и не смог справиться с буквой «ы» (похоже, два отдельных значка в строке не смогли для него сложиться в одну букву). Преподавали мы, помимо гуманитарных наук, все на свете, включая математику, географию, физкультуру и труд. Но мои ученики писали мне сочинения, так что я работала по специальности, занималась литературной критикой и лишний раз убедилась, как много интересного можно обнаружить в трэше. Даешь задание ученикам придумать предложения со словами «некто» и «нечто» и получаешь смелый вариант: «В соседней комнате некто и нечто тихо разговаривали». Всегда вспоминаю это, читая о червяке Спинозы или о «ползучести жизни» Бена Вударда. Один из учеников малокомплектной школы на предложение придумать что-то с корнем «аква» написал без затей: «В нашем колодце всегда чистая аква». Мне до сих пор нравится. Тексты живут непредсказуемой жизнью, каноны и иерархии — всегда усечение и редукция «ползучей жизни» текста. Есть тексты «хорошие» и «плохие», но для филолога интересны все. Или почти все. Я как раз читаю сейчас «Западный канон» Блума, и пока единственное, что мне там нравится, это забавная идея о том, что именно канон дает возможность правильно распорядиться собственным уединением. Все-таки не стоит претендовать на истину в последней инстанции, рабочие версии надежней. Блум заставил меня вспомнить Ауэрбаха с его «Мимесисом» и вынужденным уединением — во время Второй мировой он эмигрировал в Турцию. У Ауэрбаха, безусловно, было свое представление о «западном каноне», но он не брезговал «плохими» писателями, Григорием Турским, например. Я очень люблю тот текст, где Ауэрбах сначала журит епископа Турского за отклонения от античного канона, а потом восхищается отрывками из его «Истории», которые написаны так, будто автор сам был участником событий и видел, как два заложника-беглеца прячутся за кустом, «пока лошади мочатся». Откуда взялись эти лошади? В нарушениях любого канона можно обнаружить не меньше интересного, чем самом в каноне. Взять печально известную «Тлю» Ивана Шевцова. Это ведь комикс, очень смешные вещи. Советского художника, лауреата премий, бьет сначала домработница, а потом и жена. Автор неловко объясняет, мол, бьют, но не мясорубкой же. Откуда взялась эта мясорубка? Не всем удается удачно нарушить канон, это всегда риск.
Как складывались ваши читательские привычки?
Для меня чтение — аффект реальности. Но не в смысле «наивно-натуралистического восприятия сюжета», как это называлось на филфаке, то есть не в смысле побыть Андреем Болконским и Наташей. Моя жизнь ведь тоже текст и тоже подлежит прочтению и даже временному хранению. В детстве в моем распоряжении была большая домашняя библиотека, стандартная, с собраниями сочинений: Шекспир в тигровой обложке, серенький Чехов, синенький Пушкин, желто-зеленый Тургенев и так далее. Много было альбомов и книг об изобразительном искусстве, много шахматной литературы. Ту архангельскую библиотеку мне до сих пор приятно вспоминать — она как дом, где ты вырос. Следующая была на Кубани в 1960-е годы, поменьше и другая: много переводных книг, стихов, «Юность» и уже другие собрания сочинений. Эта библиотека отличалась нашим совместным с мамой собирательством и погружением — мама была моим учителем словесности в школе. Но мы были скорее членами одного клуба. Потом я уже самостоятельно обрастала библиотеками и тоже, меняя жизнь, утрачивала их, частично или полностью. С первым мужем в деревне мы обросли весьма специфической библиотекой — от нивхского и прочих словарей до книг из серии «Разум побеждает». Плюс собрания сочинений и тонна толстых журналов — для сельской интеллигенции не было ограничений на подписку. За жизнь я утратила несколько библиотек, помню их как родственниц, близких и не очень. Думаю, это повлияло на мой способ чтения и тип библиофилии. Мою библиофилию можно назвать стоической — можно любить случайное, и случайность может стать методом. «Любовница Витгенштейна» Марксона, например, целиком выросла из его библиотеки, собранной за жизнь. Теперь библиотека раздарена, и фаны «Любовницы» восстанавливают ее героическими усилиями. Я их понимаю, но это никогда уже не будет живой библиотекой Марксона. Мою теперешнюю библиотеку я очень люблю. Она разрослась, иногда я лишь примерно представляю, что может мне понадобиться в том или ином случае. Зато из этого случайного (если мыслить академически) набора и выбора высекаются порой такие неожиданные смыслы и конфигурации. Это интересная игра.
А как получилось, что вместо литературоведения вы обратились к художественной критике и гендерным исследованиям?
Филологией я, в общем, никогда не занималась, но всегда хотела редактировать. В начале 1990-х ждала места в редакции Татьяны Громовой, в издательстве «Книга», занимаясь при этом редактированием государственной библиографии в соседней редакции. До сих пор люто ненавижу библиографию с ее знаками препинания. Детектив Рекса Стаута — первая книжка, где я оттянулась как редактор художественного текста, улучшая текст неизвестного мне тогда автора и неизвестного никому переводчика в отсутствие оригинала — контрабанда девяностых. «Книга», к сожалению, приказала долго жить, и я ушла работать в галерею «Риджина» с Олегом Куликом, который был тогда моим мужем. Семиотика мне всегда нравилась больше, чем литературоведение, так что визуальные языки не выглядели совсем уж terra incognita. Особенно после «Избранного» Ролана Барта, в 1989 году переведенного Косиковым (он на филфаке зарубежку читал в мое время). Барт произвел такое же впечатление, как когда-то Борхес или Бодрийяр, — стратегическое.
В 1990-е годы мои смелые предчувствия о том, что ни одна иерархия не важна и российская академическая наука (знакомая мне) изжила себя, получили неожиданное подтверждение — все рухнуло в одночасье. Появилось ощущение, что находишься ровно там, где порвалась цепь времен, а вокруг орудуют обезумевшие «лидеры броуновского движения», как когда-то говорили мои друзья с мехмата. Войны, голод, неразбериха, и непонятно, чем все это кончится. Вспоминаются 1990-е как головокружительное ощущение падения всего и всех сразу куда-то в пропасть, как что-то, чего не бывает... Но не все тогда стали олигархами, бандитами и революционерами — большинство продолжало заниматься более привычными делами. Галерея «Риджина» была по-своему скандальным местом, но я там просто писала тексты к выставкам и издавала каталоги «Введение в конфигуративность», «Пустой квадрат», «Реализм и реальность», «Риджина. Хронология». К сожалению, не был издан альманах «О прозрачности», который я собирала почти два года. В то же время я писала разные вольные тексты о следах в пространстве, искусстве без интенций, конфигуративном искусстве. Все это, к моему удивлению, печаталось в модном журнале «ДИ». До «Риджины» и какое-то время в галерее Олег занимался прозрачными объектами, и мне очень нравилось в этом участвовать. Прозрачность казалась идеальной категорией для внеиерархических спекуляций, для разных «ничто» и «нечто». Прозрачность, конечно, редукция любого визуального языка, но и раздвижение границ. Она, казалось, дает небывалую прежде свободу в искусстве. К этой свободе близки сегодня перформанс и многие формы современного театра. В экспозициях 1990-х Олег совмещал несовместимые вещи, и мне нравилось находить обязательность в этих случайных на вид конфликтах и конфигурациях. Как бы там ни было, для меня 1990-е — самое приятное воспоминание о свободе, которой могло не случиться.
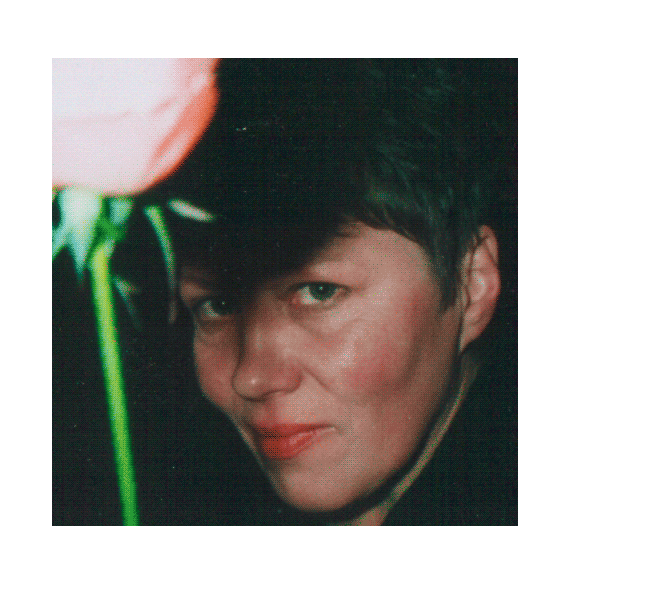
Людмила Бредихина
Фото: kandinsky-prize.ru
Вы были редактором знаковой антологии феминистских текстов, вышедшей в 2005 году. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте.
Многое в моих профессиональных занятиях кажется делом случая — современное искусство, гендерные исследования, кураторство, театральная критика. В гендерных исследованиях моей крестной матерью стала Аня Альчук. Она как раз вернулась из Америки очень воодушевленная, получила грант и готовила книгу «Женщины и визуальные знаки» с участием западных слависток-феминисток. Оказалось, это очень интересно — посмотреть на современное искусство под таким углом зрения. Тем более что по-русски язык описания для обеих дисциплин практически отсутствовал. Времени было достаточно для знакомства с большим блоком теоретических текстов на английском, и я написала тогда первую свою статью «Репрезентационные практики в женском искусстве» на материале знакомых мне московских художниц (Аня Альчук, Таня Антошина, Ира Нахова, Лена Елагина). Смотреть новым взглядом, видеть сходство и различия с тем, что делалось на Западе, было по-настоящему увлекательно. «Война полов» исторически и в 1990-е годы определенно выглядела у нас иначе, чем в Европе или Америке. Почему? Мне показалось, это может быть описано через синдром заложника/цы, когда насильственное вмешательство государства в жизнь человека так огромно, что сил воевать между собой мужчине и женщине, грубо говоря, остается немного.
В начале 2000-х начала выходить серия «Гендерная коллекция. Зарубежная классика». В ней было опубликовано много важных книжек — вроде работы «Мужское и женское. Исследование полового вопроса в меняющемся мире» Маргарет Мид или «Холостяков» Розалинды Краусс. В том числе издали сборник статей «Гендерная теория и искусство. Антология 1970–2000». Кэти Дипуэлл, редактор феминистского журнала n.paradoxa, совершенно неожиданно предложила мне стать редактором издания — мы были едва знакомы. Сборник составлен Кэти авторски, теоретические тексты Батлер-Кристевой чередуются с критическим статьями Липпард-Баррет, классические тексты — с менее известными. Думаю, этот блок текстов, как и книги Ирины Жеребкиной или Натальи Пушкаревой, сыграли свою роль в том мужании русского феминизма, которое сегодня очевидно. Я предложила включить в сборник только статью Фейт Уайлдинг о киберфеминизме с упоминанием российского вклада в международный опыт. Важно, что Кэти удалось договориться со всеми контрибьюторами о безгонорарной печати (иначе сборник не вышел бы). Российский феминизм поднимался с колен после векового перерыва, так что сестры всех стран и Крэг Оуэн посочувствовали нам. Когда Кэти попыталась издать антологию в Лондоне, все потребовали гонораров, так что антология в этом виде по-английски не вышла. Мое предисловие к сборнику написано в духе времени — популистски, даже игриво. Я ориентировалась на знакомую мне аудиторию художниц, которые еще отнекивались от феминизма как от чего-то подозрительного и необязательного. Теперь ситуация изменилась.
Забавно, что наш том отличается от серийного оформления гендерной коллекции. Директор издательства РОССПЭН А. Сорокин тогда в последнюю минуту распорядился поместить на обложку картинку, «Крестьянскую семью» Филонова, — муж, жена, ребенок и корова. До сих пор не понимаю почему.
Для меня даже феминизм был случайностью. Но я рада, что он случился — это не проходит бесследно. Он не стал для меня активизмом и пропагандистской работой. Меня всегда заводили исключительно тексты, в данном случае теоретические тексты о соотношении эстетики и феминизма, феминизма и культурных политик.
А как лично на вас повлияла эта работа?
Когда долго работаешь в паре с мужчиной на его карьеру, даже если это твой сознательный выбор, возникает стойкое ощущение какой-то недоработки в договоре. Сначала я ведь не подписывала тексты, которые сочиняла для Олега, не видела в этом необходимости. Но когда они начали мне нравиться, решила подписывать. Олег, помнится, был неприятно удивлен. И когда мы начали много ездить, меня не покидало ощущение двусмысленности положения, в том числе финансового. Все пришлось оговаривать, а это не всегда безболезненно и не у всех получается. Важный опыт — понять, как работают гендерные стереотипы, когда ты не хочешь никакой войны. Собственно, это мне было интересно и в кураторской работе. Выставку в рамках Московской биеннале (2005) я тогда назвала «Гендерные волнения». Гендер в нашем случае, в современном искусстве, еще не стал социальной конструкцией и демонстрировал подвижные, эластичные отношения, которые требовали осмысления. Как это работает, когда мужчина объявляет себя феминистом? Сдает ли женщина позиции, демонстрируя желание договариваться, а не воевать? Я хотела соблюсти паритет демонстративно, сделать заметные жесты навстречу друг другу, которые воспринимаются (или нет?) как сексистские, понять, насколько они эвристичны, насколько способствуют пониманию и сотрудничеству. Выставка была тесная (первый этаж музея на Петровке), но мне казалась стройненькой. Большая выставка в Новом манеже творческого объединения «Ирида», которую я курировала, выглядела зрелищней, но была слишком юбилейной и перегруженной, чтобы сказать что-то внятное. В объединении было более ста художниц — это много.