Моя герменевтика
Станислав Наранович о судьбоносной книге Мишеля Фуко
Редактор «Горького» в рубрике «Перепахало» о книгах, которые западают в душу и меняют нашу жизнь, рассказывает, почему он рекомендует немедленно бросить все и сесть за трактаты древних стоиков.
Я книжный детерминист. Конечно, утверждение «книги определяют жизнь» — ерунда уровня «скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты». Как правило, определяющее воздействие на жизнь оказывает все что угодно, кроме книг. И все же порой они меняют судьбу. Вряд ли мою (иначе уже философствовал бы в пифосе, а не стучал по клавиатуре в редакции), но я чувствую что-то родственное в истории о Зеноне Китийском, который прочел в афинской книжной лавке «Воспоминания о Сократе» и пришел в такой восторг, что стал учиться философии и в итоге основал стоическую школу, просуществовавшую полтысячелетия. Ну да, это легенда: увлечься философией Зенон мог и не в книжном, а услышав на агоре диатрибу какого-нибудь киника. Тем не менее, не стоит недооценивать потенциальное влияние книг. Представьте, что сегодня в книжных не лежало бы великих произведений Сенеки или Марка Аврелия, если бы в незапамятные времена какому-то финикийцу не подвернулась книга Ксенофонта.
В школе меня философия не интересовала. Бабушка как-то подарила трехтомник «Опытов» Мишеля Монтеня, потом его на моей книжной полке с удивлением заметил репетитор: «Ничего себе! Монтеня читаешь!» Я, конечно же, ничего не читал. Местами россказни древнего француза — о каннибалах или осаде крепостей — были занятными, но в целом внимания не заслуживали (удивительно, учитывая, что в «Опытах» через страницу цитируются античные авторы, которыми я зачитывался пару лет спустя). То ли дело Керуак и Буковски, рифмовавшиеся с раздолбайством в старших классах. Меня, кстати, до сих пор мучает, что же было в начале: я полюбил выпивку, прогуливал уроки, слонялся по городу в поисках приключений (ох уж эти «приключения») — и поэтому влюбился в Дина Мориарти и Генри Чинаски? Или влюбился в Дина Мориарти и Генри Чинаски — и поэтому полюбил выпивку, прогуливал уроки и слонялся в поисках приключений? Конечно, нельзя сказать, что после «Почтамта» и «В дороге» я побежал в ближайший продуктовый за дешевым виски и умчал в Питер на собаках. Но я не думаю, что взаимосвязь круга чтения и образа жизни можно описать тавтологией в духе «мы читаем то, что нам нравится». Скорее, здесь есть что-то от самосбывающегося пророчества. Так или иначе, что уж наверняка определило мою жизнь — это интернет.
Меня ослепляет колоссальная лавина случайностей, принесенных в нашу жизнь интернетом, — именно они привели меня к главной книге моей жизни (главнее вряд ли случится). Лет с четырнадцати я увлекался ролевыми играми вроде 7th Sea и D&D — страшно представить, сколько было проглочено макулатуры о темном эльфе Дзирте До’Урдене. Когда я не путешествовал с сопартийцами за столом в горние миры, обсуждал перипетии быта ролевиков на форуме: десятки подразделов, тысячи тредов, киберагора поклонников меча и магии (а заодно первый полигон для оттачивания навыков письма). Теперь форумы напоминают доисторических ископаемых, но тогда для многих пользователей они были гораздо более ценным социальным активом, чем Facebook сегодня, — не в последнюю очередь благодаря интенсивной динамике развиртуализации. То, что начиналось как флуд или текстовка (форумная версия настолки), через несколько лет оборачивалось ворохом довольно сильных социальных связей. В этом круговороте я и зафрендил ЖЖ какой-то знакомой моего боевого товарища — ну, просто так. Девушка рассказывала в основном о чем-то повседневном (лытдыбр, сказали бы тогда), но приятного языка было достаточно, чтобы интересоваться обновлениями и переписываться о всякой чепухе в комментариях. Однажды она написала о подготовке к свадьбе, и я мимоходом зафрендил жениха — тоже просто так. А дальше все уже не так просто.
Потому что жених твердил о каких-то квалиа, ноэмах, феноменологических редукциях, когнитивных науках, критической социологии, теориях нации, Дэниеле Деннете, Эрике Хобсбауме и еще уйме идей или авторов, о которых я слышал впервые. Поражало не столько разнообразие доселе невиданного пласта реальности, сколько заразительная увлеченность рассказчика. Это буйство фантазии о подноготной сознания, общества, государства и всего на свете — да еще от кого-то, судя по всему, не сильно старше — неожиданно показалось более захватывающим, чем все киберпанковские MMORPG, застольные подвиги в Забытых Королевствах и дзэн-буддистские похождения бродяг Дхармы вместе взятые. Так этот журнал стал моим гидом по перверсивным удовольствиям необъятного мира гуманитарных знаний. Постепенно я начал перенимать круг чтения автора этого ЖЖ (и частично его регулярных комментаторов) — этакое дистанционное отзеркаливание. Некоторые книги покупал не глядя, затем обнаруживал, что это не мое. Первое время я понятия не имел, что, собственно, мое вне читательской мимикрии. Потребовалось несколько лет, чтобы развить какое-никакое чутье и отложить виртуальные костыли.
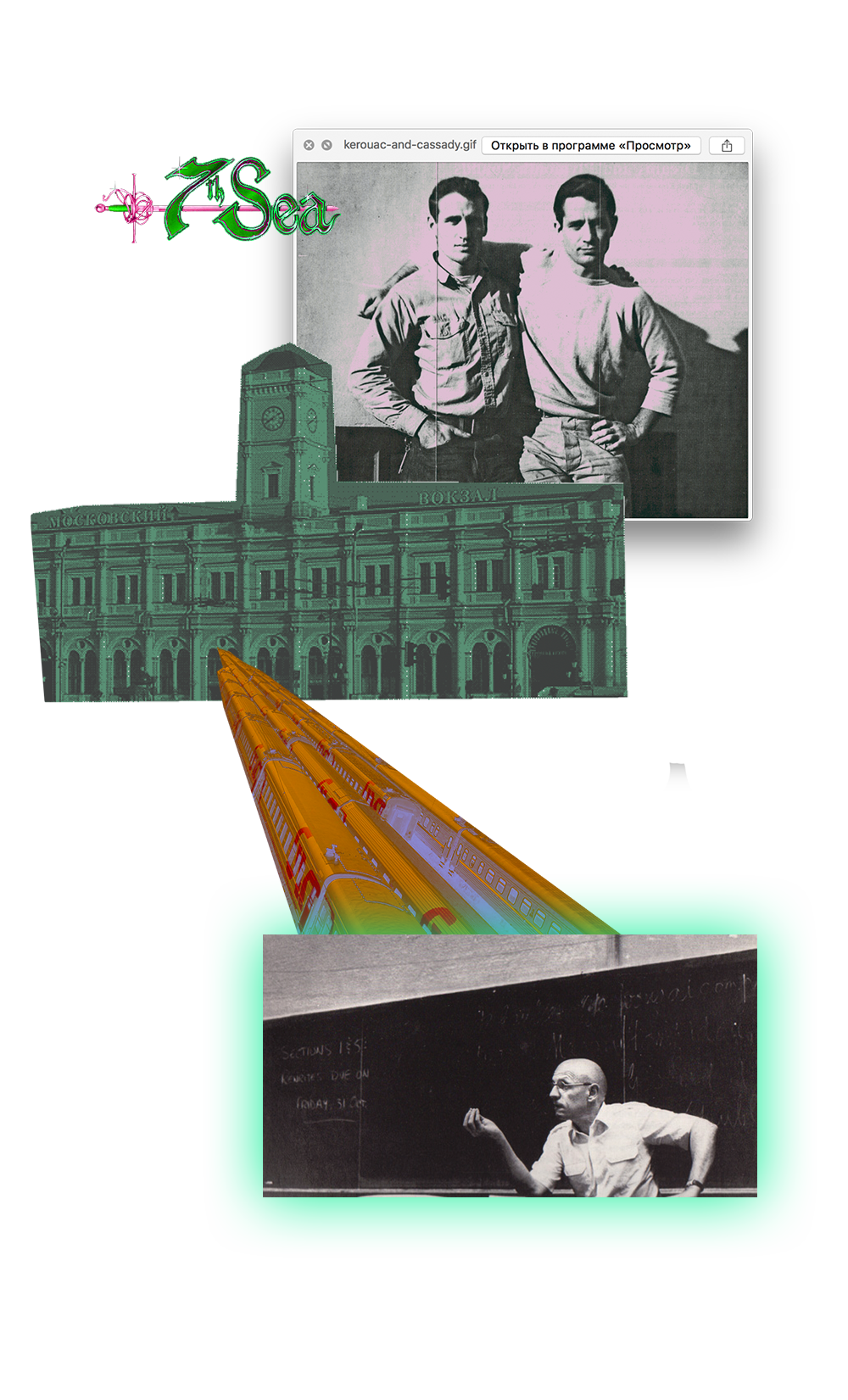 Но одна книга, нечаянно приобретенная году в 2008-м, оказалась роковой. Именно она запустила необратимую цепную реакцию, на острие которой написан данный текст. У этого биографического поворота множество составных элементов: перевод на философский факультет, страсть к древнегреческой и древнеримской истории, вера в практическое измерение философии, обсессия стоиками, диплом о киническом образе жизни, прошлогоднее выступление в казанской «Смене» об античных философских практиках, статьи об особенностях чтения в Древней Греции и Риме или протрептическом потенциале некоторых произведений той эпохи и тому подобное. В конечном счете все сводится к возникшей из-за книги нездоровой аберрации мышления, по поводу и без обращающегося к античному наследию (я тебя понимаю, старик Монтень). В общем, перепахало изрядно — но акме, надеюсь, еще впереди. Самое нелепое, что в тот день я отправился в книжный за совершенно другой книгой. Среди упоминавшихся в том ЖЖ мыслителей меня больше всего интриговал Мишель Фуко — не помню, своим образом в целом или какой-то конкретной идеей. Я хотел начать знакомство с одного из классических произведений вроде «Истории безумия» или «Надзирать и наказывать», но на полках его не было. Пришлось схватить первое, что попалось под руку. Этой книгой оказалась «Герменевтика субъекта», тем пользователем был философ Кирилл Мартынов*Признан властями РФ иноагентом. (ныне в том числе и автор «Горького»), а той девушкой — Тоня Федорова, впоследствии объявленная в федеральный розыск по сфабрикованному уголовному делу.
Но одна книга, нечаянно приобретенная году в 2008-м, оказалась роковой. Именно она запустила необратимую цепную реакцию, на острие которой написан данный текст. У этого биографического поворота множество составных элементов: перевод на философский факультет, страсть к древнегреческой и древнеримской истории, вера в практическое измерение философии, обсессия стоиками, диплом о киническом образе жизни, прошлогоднее выступление в казанской «Смене» об античных философских практиках, статьи об особенностях чтения в Древней Греции и Риме или протрептическом потенциале некоторых произведений той эпохи и тому подобное. В конечном счете все сводится к возникшей из-за книги нездоровой аберрации мышления, по поводу и без обращающегося к античному наследию (я тебя понимаю, старик Монтень). В общем, перепахало изрядно — но акме, надеюсь, еще впереди. Самое нелепое, что в тот день я отправился в книжный за совершенно другой книгой. Среди упоминавшихся в том ЖЖ мыслителей меня больше всего интриговал Мишель Фуко — не помню, своим образом в целом или какой-то конкретной идеей. Я хотел начать знакомство с одного из классических произведений вроде «Истории безумия» или «Надзирать и наказывать», но на полках его не было. Пришлось схватить первое, что попалось под руку. Этой книгой оказалась «Герменевтика субъекта», тем пользователем был философ Кирилл Мартынов*Признан властями РФ иноагентом. (ныне в том числе и автор «Горького»), а той девушкой — Тоня Федорова, впоследствии объявленная в федеральный розыск по сфабрикованному уголовному делу.
В чем же заключался взрывной эффект «Герменевтики»? Спустя почти десять лет мне сложно реконструировать его в первозданном виде: с одной стороны, с тех пор он оброс слишком многими познаниями, с другой, теперь я вижу спорные места этой работы и вообще удивлен, как она могла оказать хоть какой-то эффект на того, кто не учил древнегреческий и не читал античных авторов. Но, думаю, я не сильно пойду против правды, если скажу: это была первая книга, показавшая мне, что философия может быть другой. Не кабинетной наукой и академической дисциплиной, а жизненным укладом — в том же понимании, в каком можно сказать об укладе жизни христианского анахорета или монаха. И этот философский modus vivendi пленил меня.
У книги нет какого-то одного системообразующего тезиса — скорее, это компендиум целого ансамбля особого рода интеллектуальных и телесных практик от Сократа до Григория Нисского с анализом их эволюции. Собственно, это и не книга вовсе, а лекционный курс 1982 года, прочитанный Фуко в Коллеж де Франс в рамках более широкого исследования отношений субъектности и истины в античности, которым он занимался последние пять лет жизни. Возможно, именно устный характер повествования и его адресованность весьма разношерстной аудитории обеспечили низкий порог вхождения, несмотря на обилие древнегреческой терминологии (то же самое, но написанное Фуко от руки было бы совсем другой историей).
Я сторонник больших форм и растянул бы этот текст на несколько десятков страниц, чтобы релевантно отразить все многообразие сюжетов «Герменевтики себя» и наметить расходящиеся от нее направления чтения (супруги Адо, Вернер Йегер, Макс Поленц, Энтони Лонг, Мари-Одиль Гуле-Казе и многие другие). Но это выходит за пределы рубрики, главный герой которой все-таки читатель, а не книги, поэтому ограничусь самым малым. Красной нитью через всю «Герменевтику себя» проходит многогранная история epimeleia heautou — «заботы о себе». Именно к ней призывает Сократ в «Апологии», уговаривая афинян «заботиться раньше и сильнее не о телах ваших или о деньгах, но о душе». Опираясь на «Алкивиада», можно заключить, что этот принцип неразрывно связан с еще одним — gnothi seauton («познай самого себя»): «Познав самих себя, мы одновременно познаем заботу, в которой нуждаемся». В определенном смысле это две стороны одной монеты: познание себя — это уже забота о себе, ведущая к обогащению наших представлений о требуемой заботе. Эта двоица не самоценна, а необходима для заботы о других, чем молодой Алкивиад и собирался заняться на государственном поприще, но был пойман назойливым Сократом с расспросами, каким образом он намерен заботиться о других, если даже о себе не может позаботиться. Сократ вот может — поэтому оправданны и его наставления афинянам. Один из самых колоритных образов философа (Фуко будет обсуждать его через два года в курсе «Мужество истины»), заботящегося о жизнях других, принадлежит Эпиктету: он «вестник, лазутчик и глашатай богов» и «родитель всех людей, мужчины — его сыновья, женщины — его дочери: он обращается так ко всем, так он печется обо всех. Или ты думаешь, что он по назойливости бранится с встречными? Он делает это как отец, как брат и как служитель общего отца, Зевса».

Если все-таки суммировать основную коллизию «Герменевтики», она заключается в том, что со временем gnothi seauton вытеснило из философии в частности и культуры в целом epimeleia heautou — и осталось лишь чистое познание, плодами которого мы теперь наслаждаемся: «Что было причиной того, что понятие epimeleia heautou (заботы о себе), несмотря ни на что, было обойдено вниманием в том способе, каким западное мышление, философия восстанавливали собственную историю? Как получилось, что столь видное место занял, обрел такую важность и значимость принцип «познай самого себя» и было отодвинуто в сторону, оказалось в тени понятие заботы о себе, которое фактически, исторически, если судить по документам и текстам, поначалу, похоже, включало в себя принцип «познай самого себя» и было опорой целого круга чрезвычайно насыщенных и богатых смыслами понятий, практик, форм поведения, способов жизни и т. д.? Откуда у нас это предпочтение gnothi seauton в ущерб заботе о себе?»
Я до сих пор помню, как взволнованно читал и подчеркивал карандашом эти вопросы, казавшиеся мне самыми важными не просто для философии, а вообще для ВСЕГО. Они обещали какой-то волшебный мир (которого на самом деле никогда не было), где люди занимаются не ерундой, а собой, философия сводится не только к кодификации, но и трансформации (себя, других и, как следствие, мира), а философы — виртуозы не только разума, но и жизни. Эта утопия завораживала настолько же, как когда-то в детстве миры Средиземья или Земноморья, в которые хотелось уйти с головой и не возвращаться. Ни одна другая книга не сулила ничего похожего. Конечно, я замусолил до дыр того же «Заратустру», но это была (при всем моем благоговении) всего лишь поэма — она не давала никакого арсенала, одно только дионисийское опьянение. Тогда как работа Фуко, с виду соблюдающая признаки добросовестного исторического исследования, стала для меня тем же, чем «Капитал» для марксистов.
Вскоре после прочтения «Герменевтики себя», во многом опирающейся на стоицизм, я уже ходил повсюду с томиком очередного стоика в руке и как одержимый втюхивал всем без разбору, что стоические ἀπάθεια и ἀδιάφορα — главное, чего им не хватает в жизни: рекомендую немедленно бросить все и садиться за Марка Аврелия. Первым, кто спросил, соответствовала ли вся эта трескотня той жизни, которую я веду, был мой друг Феликс Сандалов (как сейчас помню, за столом с водкой и хинкали в «Чито-Ра» на Курской). Что бы я тогда ни бормотал, разумеется, не соответствовала — да и не особо соответствует поныне; оставлю за скобками попытки применить всевозможные протрептики на деле. Интеграция античной этики в нашу повседневность выглядит подчас столь натужно — будь то образовательный проект School of Life Алена де Боттона или движение Modern Stoicism, среди кураторов которого есть довольно компетентные знатоки эллинистической философии, — что задумываешься, уместна ли она вообще. Пьер Адо, конечно, сказал, что античная концепция философии как духовных упражнений и конверсии жизнеспособна и сегодня — но он ничего не сказал о том, как она возможна сегодня. Простите за перефразирование любимого анекдота Жижека, который сам Жижек употребил миллион раз, но античная философия без античности — все равно что кофе без кофеина. Тем не менее, пусть редко, но даже в современности (понятой максимально широко — в данном случае и Кант наш современник) встречаются философы, чья жизнь если и не воплощает их дискурс, то хотя бы служит его коррелятом — биография того же Фуко об этом ярко свидетельствует.
Так вот, не люблю заканчивать цитатами, но все же отвечу запоздало на вопрос Феликса словами Мишеля Монтеня, которого я некогда игнорировал, отдав и ему запоздалую дань уважения: «Пресмыкаясь во прахе земном, я, тем не менее, не утратил способности замечать где-то высоко в облаках несравненную возвышенность иных героических душ. Иметь хотя бы правильные суждения, раз мне не дано надлежащим образом действовать, и сохранять, по крайней мере, неиспорченной эту главнейшую часть моего существа, — по мне, и то уже много. Ведь обладать доброй волей, даже если кишка тонка, это тоже чего-нибудь стоит. Век, в который мы с вами живем, по крайней мере под нашими небесами, — настолько свинцовый, что не только сама добродетель, но даже понятие о ней — вещь неведомая; похоже, что она стала лишь словечком из школьных упражнений в риторике».