«Мне уже пора сжигать дневники, а я так и не научился их писать»
Читательская биография Владимира Шинкарёва
Владимир Шинкарёв известен как художник, придумавший митьков (впрочем, он из этого движения еще в 2008 году демонстративно вышел). И как писатель, чьими книгами — например, «Максимом и Федором» — зачитывался весь ленинградский андеграунд, включая Бориса Гребенщикова. Но с 2010 года Шинкарёв прозы принципиально не пишет. В интервью «Горькому» художник объяснил почему, а также рассказал о синергии слова и изображения, чтении Иоанна Златоуста и о том, как рождение митьков связано с Хулио Кортасаром.
«Максим и Федор» выдает в вас человека, прочитавшего до 26 лет такой корпус литературы, который не каждый освоит и за всю жизнь. Как вам это удалось?
Вы преувеличиваете, не освоил я, даже не прочитал, я ознакомился. Да и так ли это много? Мои приятели читали ровно столько же. Потребность и скорость чтения — она зависит от среды, которую ты выбрал. В моей компании вращались книги, обновляемые по мере посещения книжного рынка. Пару раз в месяц едешь на этот рынок, сначала он находился во дворе за «Академкнигой» на Литейном, затем его разогнали с конфискацией и рынок переместился за границу города, в Ульянку. Там продаешь, к чему сердце не прикипело (я это делал с неизменным убытком для себя), покупаешь оптимальное по соотношению цена/художественная ценность. Например, двухтомники Гамсуна и Леонида Андреева стоили по 15 рублей, Пильняк — 35! Просишь у продавца посмотреть этого Пильняка («Чего там смотреть, Пильняк он и есть Пильняк…»), пристально читаешь три страницы из разных мест книги и с облегчением покупаешь двухтомники Андреева и Гамсуна, сэкономив 5 рублей. А приятель твой соблазняется горькой судьбой и запрещенностью Пильняка, который, на мой-то вкус, и трешки не стоит. Но нравится-не нравится, а, коли у приятеля есть Пильняк — буду быстро читать Пильняка, а он берет почитать Гамсуна с Андреевым. Так действовала самая низшая категория потребителей книг, книгочеи. Более высокая категория, книголюбы, книгу уже неохотно давала почитать, она должна всегда сверкать своим престижным названием с полки; книгу с библиотечным штампом, стоящую в разы меньше иметь было западло. Следующая категория — библиофилы: мученики в ненасытных погонях за недостающими книгами. И нечто запредельное: библиоманы, собиратели сокровищ, до которых нельзя дотрагиваться, — древних первых изданий, книг с автографами. Забавно, что я в глазах моих приятелей на некоторое время попал в эту высшую категорию: роясь в обширном книжном шкафу моей аристократической первой тещи, за первым рядом стандартно-интеллигентских Стендалей и Диккенсов я обнаружил второй ряд, от которого у меня началось мучительное сердцебиение. Розанов, Мережковский, московский гость Андрей Белый. Все, все без исключения с дарственными надписями, в идеальном состоянии, многие с неразрезанными страницами. Бабушка (или мать?) моей тещи книг не покупала, ей дарили авторы. Естественно, я скрыл от тещи факт обнаружения сокровищницы, сам читал и приятелям давал.
Вы помните первую книгу, которую прочли или которую вам прочитали вслух?
А вы помните? Я не представляю себе такой глубины памяти, чтобы помнить первую книгу… Которую вам прочитали вслух… «Колобок» какой-нибудь, который полностью понять можно только в зрелом возрасте. Помню первые потрясения — «Незнайка на Луне», он печатался в журнале «Семья и школа», целый месяц приходилось изнывать по следующему номеру. Великолепная, глубокая книга. Немногим уступали Незнайке «Три мушкетера», ее также пришлось читать порциями, в гостях у родственников. Вот как убого была организована домашняя библиотека — «Трех мушкетеров» не было! Достоевского, кстати, тоже не было — я это к тому упомянул, что считаю: у каждого ребенка должны быть «Незнайка на Луне», «Три мушкетера» и, чуть позже, Достоевский. Родители читали, а больше писали — тексты по геологии. Сначала следовало написать по кандидатской диссертации, затем — по докторской. Книги, написанные отцом — по петрографии магматических и метаморфических пород, — я читал. А вот он мои — «Максима и Федора» и так далее — читать не стал. То есть можно сказать, что в какой-то степени отец руководил моим чтением, да не в коня корм пошел… Моя мать — довольно известный, страстно увлеченный геолог, сотрудники уважительно называли ее «Большой уралец». Мне сдается, что она всегда тонко понимала литературу и живопись. Когда ей было под восемьдесят — она неизменно одобряла то, что я ей предлагал прочесть, даже столь эпатажную для ее консервативного мировоззрения книгу как «Это я — Эдичка».
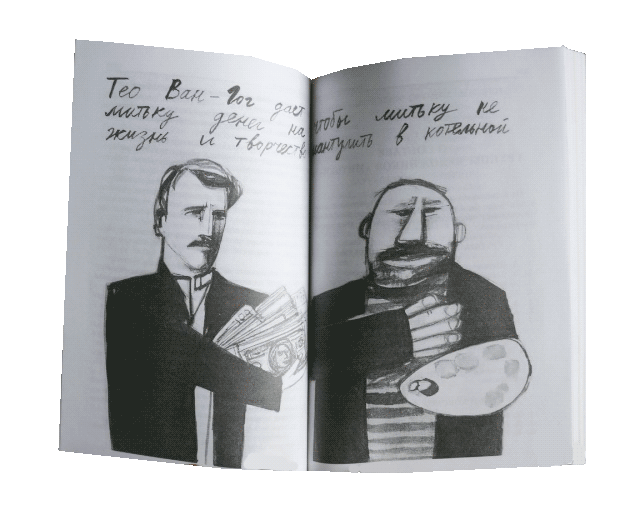
В юности вы успели поработать геологом и в котельной. Что и как вы читали тогда?
Что и как читают геологи в экспедициях? Это все равно, что спросить: «Что и как читает спортсмен, пока бежит стометровку». Ну, разве реклама какая бросится в глаза, прочитает. Впрочем, и среди суеты экспедиции выдавались периоды полной, звенящей пустоты. Например, когда меня оставляли на неделю-другую сторожить керн на буровой скважине в какой-нибудь деревне. Беда в том, что именно в такой ситуации книг-то и не оказывалось, взял с собой книгу, мигом прочитал — а дальше? С середины 1970-х ты не мог надеяться купить какую-либо книгу ни в городском, ни в деревенском магазине, книги внезапно стали предметом престижного потребления. Оставалось гулять взад-вперед вокруг охраняемого керна или писать самому: так и был написан «Максим и Федор», «Полусухариный сад», книга с всеобъемлющим названием «Употребление слов». А вот раньше, в конце 1960-х годов, когда я еще школьником ездил с матерью в экспедиции по Уралу, в сельских магазинах продавалось все что угодно — «Игра в бисер», Бабель, Кафка. Томик Кафки за один рубль сорок девять копеек, по цене маленькой водки, который я по малолетству затерял, пришлось через десять лет покупать за 60 рублей. Верно писал Василий Розанов: книга не водка, она и должна стоить дорого. Правда, и водка подорожала, но не настолько же, чтобы за четвертинку ползарплаты отдать! Читать много, систематически «осваивать корпус литературы», я начал уже после 26 лет: бросил геологию и пошел в котельную, место обитания люмпен-интеллигенции. Трое суток гуляешь — сутки в котельной читаешь, почти не отвлекаясь на котлы, а еще лучше в двух котельных работать, сутки через сутки.
В 1981 году вы вступили в Товарищество экспериментального изобразительного искусства, куда также входили и Тимур Новиков, и некрореалисты. А насколько там книги были предметом обсуждения? Вы спорили о них, передавали из рук в руки?
Товарищество было обширно, сотни людей, многие едва знакомы. У меня с товарищами быстро образовалась частная лавочка, будущая группа художников «Митьки», с ними-то, конечно, говорили о книгах, обменивались. Тогда все читали. Это сейчас приходится уговаривать, провозглашать дурацкий всенародный лозунг «читать — модно». О чем это свидетельствует? Что молодежь решительно предпочла не читать, а в игрушки играть.
Кстати, об играх. Лет пятнадцать назад вы говорили в интервью, что с увлечением играете в «Цивилизацию 3» «вместо употребления алкоголя». А во что играете сейчас? И насколько это похоже на чтение — вы ведь погружаетесь в сюжет игры, теряете контакт с внешним миром?
Бывает и сейчас играю в «Цивилизацию», и только в нее, — но редко, все меньше времени, которое можно сознательно бросить псу под хвост. Конечно, хочется иногда впустую потратить время, чтобы не приступать вот так сразу к трудным проблемам, сделать антракт в тяжести бытия. «Готовы в бирюльки играть — лишь бы не молиться…» — с горечью, но и с некоторым сочувствием написал протоиерей Никон Воробьев о подобных ситуациях. А с чтением я бы не сравнил эти игры в бирюльки. Читать совершенно пустую литературу тяжело, настроение портится… не дает такое чтение желанного забытья.
Кстати, читали ли вы или писали ли в состоянии алкогольного опьянения? Если да, то насколько такие ощущения отличны от обычных и насколько это продуктивно?
Не видел ни одной сносной картины, написанной под кайфом, — ни у себя, ни у других. Живопись делается методом проб и ошибок, а когда у тебя от опьянения повышена самооценка, когда измененное состояние сознания путает твои критерии, — что намазал, то и хорошо кажется. С литературой, особенно со стихами, несколько по-другому, иногда неплохо от куража получается. Читать бывает интересно в опьянении — тут измененное состояние сознания подталкивает реагировать неожиданным образом. Один мой совсем неглупый приятель любил пить для того, чтобы, запершись в одиночестве на кухне, с хохотом и слезами читать подшивку журнала «Крокодил».
«Я махровый традиционалист, идеальное соотношение между изображением и словом было в средневековых манускриптах»
В конце девяностых вы создали живописный цикл «Всемирная литература»: шестнадцать картин, посвященных книгам, от «Илиады» до «Мира как воли и представления» или «В лесу родилась елочка». По какому принципу отбирались эти произведения? Для вас они — явления одного порядка?
Гоголь риторически восклицал: непонятнее всего, как авторы могут брать подобные сюжеты! Может быть, столь разные явления включены туда, чтобы зритель думал и разгадывал? Ведь и самая моя большая серия картин — «Мрачные картины» — названа так провокационно, с тем чтобы всякий зритель, посмотрев, подумал: и вовсе не мрачные. Включил туда книги, которые захотелось тогда. Конечно, были возможны и другие варианты. Я же не конструирую что-либо по строгому плану, может, так делают высокопрофессиональные художники и писатели, у меня так никогда не получается. Пикассо сказал о своей живописи: «Я не ищу, я нахожу», то есть внезапно обнаруживаю литературную или пластическую идею уже исполненной.
Если бы вы создавали этот цикл сейчас, то что бы изменили, добавили или убрали?
Неплохо смотрелся бы в этом цикле какой-нибудь диалог Платона. «Обитель» Захара Прилепина — свирепая картина бы вышла. «Хронография» Михаила Пселла — еще мрачнее. Впрочем, нет, Пселла мало кто читал, а для этого цикла нужны известные книги.
Кстати, Данте во «Всемирной литературе» вы показали в совершенно комиксовой манере. Министр культуры недавно комиксы назвал «чтением для дебилов». А вы как к ним относитесь? И каким, по-вашему, должно быть идеальное соотношение между словом и изображением в книге?
Вот именно Данте я бы убрал из цикла, и именно потому, что он написан в несвойственном мне стиле комикса, выглядит чужеродной вставкой в мою живопись. Не люблю я комиксы, только в исполнении Роя Лихтенстайна они величественны и умны. Я махровый традиционалист, считаю, что идеальное соотношение было в средневековых манускриптах. Еще в лубках, народных вывесках, картинах Михаила Ларионова. Были, впрочем, и великолепные профессиональные иллюстраторы, мой любимый — Юрий Васнецов. Идеальным соотношением является синергия, когда синтез слова и пластики во много раз превосходит оба компонента по отдельности. Конечно, нынче это редкость.
1/3 2/3
2/3  3/3
3/3 
Если ли у вас желание проиллюстрировать книги и, если да, то какие и каких авторов?
Я иллюстрировал свои книги, книги товарищей. Людям нравилось. А мне — не очень. Текст без иллюстрации все же заставляет воображение трудиться активнее. Литература ведь будит воображение больше, чем кино. А черно-белое кино — больше, чем цветное.
Тем не менее в цикл «Всемирный кинематограф» вы включили и черно-белое, и цветное кино. Какое вам все-таки ближе?
Это все равно что спросить: какие картины вам ближе — желтые, синие или красные? Хорошие ближе. И во всем так: хорошее люблю, нехорошее — нет.
«В молодости мой интерес распространялся во все стороны, как пожар в степи»
И в «Максиме и Федоре», и в других ваших книгах легко прочитывается интерес к восточной литературе. Как и почему он проснулся? Сейчас вы перечитываете Хаттори Рансэцу и Дзюнъитиро Танидзаки, например, или это уже пройденный этап?
В молодости мой интерес распространялся во все стороны, как пожар в степи. В месяц, когда я писал «Максима и Федора», прочитал «Исэ-моногатари», вот интерес и проснулся. Конечно, японская литература, живопись, вдохновляет меня и сейчас. Хотя некоторые мои товарищи и считают ее провинциальной по отношению к китайской, улыбаются на меня скептически.
Мне кажется или сейчас вы можете с увлечением читать духовную литературу?
Понятно, что всякое искусство символично, строит собственный мир, но русский читатель, я в том числе, доверчив, склонен даже принимать художественную литературу за отражение действительности. Но в жизни человека все происходит по промыслу Божьему, а в художественной литературе — по произволу автора. Зачастую бессмысленному. Мемуары, дневники, история, философия всякая — ближе к реальности, поэтому к старости, замечаю, многие мои знакомые подобную литературу охотнее читают. А рано или поздно настает пора читать Авву Дорофея, св. Иоанна Златоуста, Игнатия Брянчанинова, Антония Сурожского — выбор очень большой. Вероятнее всего, на первых порах такая литература покажется менее увлекательной, чем «Три мушкетера», да ведь все хорошее требует труда.
Знаю, что вы не очень любите говорить о «Митьках», но все-таки не могу не вспомнить о них. Потому что эта книга, может быть, один из удачных примеров самосбывающегося пророчества. Что, по-вашему, все-таки было первично — новый социальный типаж, который вы первым «ухватили», или ваши мысли? Насколько литература способна конструировать действительность?
«Самосбывающееся пророчество» — забавное, но верное определение: напророчил, да сам к бытию и вызвал. А мысль написать о некоем массовом молодежном движении у меня была еще до знакомства с Митей Шагиным. После написания «Конца митьков» я только живописью и занят, от литературы проблемы одни.
Вы не раз говорили, что считаете: человек либо задействует пластическое мышление — и тогда становится художником; либо мышление с помощью слов — и тогда пишет книги. Вы предпочли мышление пластическое. А по каким признакам поняли, что живопись получается у вас лучше текстов?
Я давно не работаю в экспедициях, в котельных, где возможности не было писать картины маслом. Вот прихожу теперь в мастерскую: что же, буду здесь тексты писать? Да никогда. Долго, трудно себя перенастраивать, не молодой я уже, чтобы быть «творцом общего профиля». Может, я ошибся, поленился, вот Эрнст Теодор Амадей Гофман считал, что его основное призвание — музыка, а не поленился, взял себя в руки и сколько текстов написал.
Пишете ли вы что-нибудь для себя — например, дневники? И есть ли что-то еще, кроме вопросов «Горького», что может заставить вас писать?
Да, иногда пишу дневник, могу даже процитировать последнюю фразу оттуда: «Мне уже пора сжигать дневники, а я так и не научился их писать». Кроме вопросов «Горького» меня уже ничто не заставит писать, разве что иногда просьбы приятелей, по настойчивости граничащие с угрозами.
Возвращаясь к митькам: в какой степени та самая первая книга о них родилась из чтения, были ли тут литературные первоисточники?
Да, был первотолчок — «Жизнь хронопов и фамов» Кортасара. А еще больше — упоминание в предисловии к Кортасару о том, что по Аргентине прокатилась волна демонстраций молодых людей с плакатами типа «Хронопы против нейтронной бомбы». Ну не важно, с какими плакатами, важно, что реальные люди отождествили себя с вымышленными персонажами.
«Петербург Блока мне ближе всего»
Вы один из самых петербургских художников, но Петербург на ваших картинах не совсем такой, каким его можно увидеть сейчас. Это скорее Петербург блоковский, «ночи, улицы, фонаря и аптеки». А какие литературные тексты о Петербурге вам ближе всего и какие вы чаще всего перечитываете?
Верно! Именно Блок ближе всего. Случилось к тому же так, что я живу на Большой Монетной, в доме, где некогда жил Блок, и каждый раз, приходя домой, я волнуюсь: по этим ступеням шел и Блок. Но Блок слишком силен, он сбивает с ног, как волна. На моих картинах Петербург спокойнее, меланхоличнее, мне-то кажется, что он такой и есть. Если бы большинство жителей уехали на своих машинах куда-нибудь на демонстрацию или в магазин «Икеа» — Петербург так бы и выглядел. Самая точная картина Петербурга — в мемуарах, особенно в дневниках. Александра Бенуа, Добужинского. А перечитывать-то некогда, еще столько нечитаного…