«Меня восхищает изысканно аскетическая проза „Логико-философского трактата“ Витгенштейна»
Читательская биография филолога Алексея Жеребина
Про детское чтение
Лет в двенадцать я увлекся историческим романом Анны Антоновской «Великий Моурави», залпом прочитал все шесть томов, и, когда недавно увидел в метро девушку, читающую «Моурави», — мне все вспомнилось: какой это был бесстрашный, благородный грузинский князь (XVII века, кажется) и каким прекрасным было лето, проведенное за этим романом тогда на даче.
Примерно в это же время я был сильно увлечен Наполеоном. Не знаю, почему меня заинтересовала эта тема, но я читал о нем с восхищением, знал всех маршалов, все знаменитые сражения и был отъявленным «бонапартистом». Первой книгой была, по-моему, биография Тарле. Когда позднее мне довелось побывать на Корсике, я в первый же день поехал в Аяччо, где Наполеон родился и провел детство.
В школе я читал много и неразборчиво — книги, которые были у нас дома, — и хорошо писал сочинения, иногда и за своих друзей, а они решали за меня задачи по физике и математике. Школа была неплохая, как это тогда называлось — «с расширенным изучением немецкого языка». С некоторыми из одноклассников, теми, кто еще жив, мы время от времени встречаемся, и всегда находится, что вспомнить. Литературу у нас вела Ирина Исааковна Бунич. Любимой ее книгой был роман Чернышевского «Что делать?», уже тогда не особенно модный, но мы знали его наизусть и были, так сказать, хорошо подготовлены к позднейшему чтению набоковского «Дара». Ирина Исааковна считала, что, чтобы оценить «Что делать?» по достоинству, надо знать всю литературу XIX века, отраженную в ней историю русской интеллигенции. Она умела сделать так, что школьная программа нас не тяготила. Больше всего я любил «Войну и мир», хотя посвященные Толстому книги Эйхенбаума и Шкловского прочел уже в университете.
Уроки немецкого языка были каждый день, но немецкую литературу мы знали неважно, очень выборочно, больше по хрестоматии, из которой надо было учить много стихов. На одной из недавних встреч с одноклассниками, мой приятель, тоже почти семидесятилетний, подвыпив, стал по памяти читать «Перчатку» Шиллера, причем после выпуска он никогда не имел дела ни с немецким языком, ни с изящной словесностью. Собственно, я и сам пошел на немецкое отделение университета просто потому, что, окончив немецкую школу, легко мог сдать вступительные экзамены.
В 10-м классе я познакомился с Израилем Савельевичем Фридляндом, который вел в Дворце пионеров поэтический клуб «Дерзание». Те, кто писал стихи, их декламировали, а те, кто писать не умел, обсуждали чужие. Там сложилось неформальное «интерпретативное сообщество» и было интереснее, чем в школе.
Я тоже писал стихи, хотя и плохие. Больше всего они нравились моей маме, она их переписывала в специальную тетрадку и показывала своим знакомым, даже одному известному поэту, кажется, Глебу Горбовскому. Подростковые стихи были эмоциональной выучкой, школой чувств.
Стихов мы читали довольно много — Маяковского, Асеева, Багрицкого, Пастернака и тех, кто был тогда на слуху, — Вознесенского, Рождественского, Евтушенко, Беллу Ахмадулину, Бориса Слуцкого. Это навсегда осталось как фон. Не так давно, работая над статьей о Ницше и декадентах, я случайно написал, что «их манит страсть к разрывам» — сама собой всплыла в памяти строчка из Пастернака. О Бродском я тогда ничего еще не знал. Блока и поэтов Серебряного века, Ахматову, Мандельштама, Гумилева, Цветаеву — все это я читал позже, уже на филфаке. В 1965 году, когда я учился классе в восьмом, вышел первый после большого перерыва массовый сборник стихов Сергея Есенина, и мы, я и мои школьные друзья, буквально выучили его наизусть. Помнится, я был искренне растроган, когда уже после 2000 года венский писатель Петер Розай начал читать мне стихи Есенина в переводах Пауля Целана. Сомневаюсь, что нынешние школьники, интересующиеся поэзией, все еще увлекаются Есениным, они, наверное, больше избалованы.
В «Дерзании» я познакомился с Виктором Соснорой. Однажды он спросил, нравятся ли мне фигурные стихи. Я пожал плечами и сказал, что не очень понимаю, зачем они нужны. Он улыбнулся и стал объяснять. Самым талантливым в той компании был, наверное, Геннадий Григорьев. Однажды он подарил мне стихотворение со словами, что оно обо мне, — «Этюд с предлогами».
 Поэт Виктор Соснора, 1990. Источник
Поэт Виктор Соснора, 1990. Источник
Про запретных и полузапретных авторов
В студенческие годы я не был диссидентом, но было желание фрондировать. Официальная идеология раздражала, но раздражала и злоба радикальных диссидентов. Тогда, на излете советской эпохи, вырабатывалось, может быть, лучшее, что есть в нашем поколении, — принципиальное неприятие всех принципиальных позиций, всех твердых убеждений. Годы работы в педагогическом институте меня в этом отношении не изменили: пафос учительства меня скорее смешит. Другое дело — передавать предметные знания и вести себя так, чтобы твои мысли, твое отношение к науке и жизни хотелось перенимать. Но это дано очень немногим, хотя мне на таких учителей везло.
После защиты кандидатской диссертации начальство стало мне предлагать вступить в партию. Я рассказал об этом Марии Лазаревне Тронской, моей университетской учительнице и старшему другу. Она с трогательной наивностью посоветовала ответить, что к такому важному шагу я еще внутренне не готов, — аргумент, который наверняка был бы воспринят партийным начальством как насмешка. Но на мое счастье, у парторга было чувство юмора.
Самиздат читали почти все, хотя иногда это было небезопасно. Часто запрещенные книги распространялись на фотокопиях размером в четверть листа. Я читал их под партой, особенно во время занятий на военной кафедре. В университете была тогда военная подготовка, и немногочисленным молодым людям, учившимся на немецком отделении, предлагали службу офицеров-переводчиков и «спецпропагандистов» в группе советских войск в Германии. Помню, незадолго до выпуска пришли на военную кафедру два интеллигентных сотрудника КГБ, чтобы познакомиться с выпускниками, выяснить их образ мысли и побеседовать о возможной для них военной карьере. Я в армию не хотел, надеялся поступить в аспирантуру и по совету своего приятеля сказал, что с интересом читаю Солженицына. Приятель меня убедил, что за это ничего не будет, но в армию не возьмут. Кроме повести «Один день Ивана Денисовича» у нас тогда еще все было под запретом, и мои собеседники живо заинтересовались, где же я беру книги; я, опустив глаза, ответил: «Ну, вы же понимаете». Развивать тему они не стали, но в конце разговора один из них отметил: «Вы обо всем судите здраво, а вот литературный вкус подкачал». Служить в ГДР мне больше не предлагали, хотя, может быть, и не из-за этого собеседования.
 «Архипелаг ГУЛАГ». Самиздат. Источник
«Архипелаг ГУЛАГ». Самиздат. Источник
Про научную литературу
Первое, что я читал всерьез, — это работы моих учителей, М. Л. Тронской и Н. А. Жирмунской, которая была научным руководителем моей диссертации и как раз в те годы работала над подготовкой к изданию «Избранных трудов» своего мужа, Виктора Максимовича. Его книги служили мне образцом, с таким же восхищением читал я Д. С. Лихачева и Л. Я. Гинзбург — с последней М. Л. Тронская меня познакомила, и это знакомство способствовало моему интересу к формальной школе, с которой были еще связаны и наши университетские профессора — Д. Е. Максимов, читавший нам курс русской литературы, А. В. Федоров, читавший теорию перевода.
По соседству с университетом, в Педагогическом университете имени А. И. Герцена, где я работаю с 1991 года по сегодняшний день, преподавали на филфаке Наум Яковлевич Берковский, на инязе Ефим Григорьевич Эткинд. Лекции Берковского по немецкому романтизму, на которые мы забегали из нашего университета, хорошо помнят все, кто их слушал. Читал он медленно и выразительно, как бы сочиняя на ходу, облекая свои мысли в суггестивные, запоминающиеся художественные образы. Иногда он на лекцию опаздывал и еще от гардероба, поднимаясь по лестнице, начинал трубить: «Иду-иду-иду-иду». Берковский работал на кафедре, которой я сейчас имею честь заведовать, и он, безусловно, самый известный из всех профессоров, когда-либо у нас преподававших. М. Л. Тронская, узнав, что я к нему хожу, как-то сказала с затаенным скептицизмом: «Да, конечно, послушайте, почитайте, у него часто встречаются интересные мысли». Это была другая школа, другой стиль мышления и другой стиль научной, филологической прозы, менее строгой и академической, чем было принято в университете. Впрочем, «литературоведение» моих университетских учителей также представляло собой факт самой русской литературы, хотя эстетическое качество их устных и письменных текстов проявлялось не так открыто, как у Берковского. Не случайно многие из них состояли в Союзе писателей.
Одним из самых любимых молодежью ленинградских профессоров был и Ефим Григорьевич Эткинд, вынужденный эмигрировать из СССР в 1974 году, в тот год, когда я окончил университет. Позже я видел его в Вене; узнав, что я работаю в Герценовском институте, откуда его уволили, он посмотрел на меня с иронией: «Ну вот раньше я там преподавал, теперь вы».
С конца 1980-х годов на нас обрушилась лавина текстов и теорий, которых многие из тех, кто занимался историей литературы в России, и я в том числе, раньше совсем не знали. Литературоведческий инструментарий стал стремительно обновляться, но, стараясь его освоить, я не раз с благодарностью вспоминал все то, чему научили меня мои учителя.
Про занятия XVIII веком и современность
 М.Л. Тронская. Немецкая сатира эпохи просвещения. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1962
М.Л. Тронская. Немецкая сатира эпохи просвещения. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1962
В молодости мне хотелось заниматься немецкой литературой ХХ века, но новейшей научной литературы в наших библиотеках недоставало, контакты с иностранными университетами были плохо развиты; к тому же все еще давали о себе знать идеологические ограничения. Например, мне пришлось отказаться от дипломной работы по Генриху Беллю, потому что как раз в 1973 году Белль, считавшийся другом Советского Союза, выступил с его резкой критикой. «Станьте-ка вы лучше восемнадцативечником», — советовала мне Мария Лазаревна.
Так и случилось, что вся моя молодость прошла за чтением немецких текстов XVIII века. Мне нужно было знать тот литературный фон, на котором писал герой моей первой диссертации — Кристоф Мартин Виланд. Софи Ларош, Фридрих Николаи, Мориц Тюммель, Иоганн Вецель — навряд ли эти имена много скажут сегодняшним читателям. Самым известным из «моих» авторов был, наверное, Жан Поль Рихтер. Времени на современную литературу почти не было, и я с завистью слушал, как друзья обсуждали, например, только что вышедший по-русски сборник рассказов Борхеса или полемику между журналами «Новый мир» и «Октябрь».
Уже на исходе периода оттепели слышались голоса о том, что если лет через сто кто-то сравнит либеральный «Новый мир» с официозным «Октябрем», то не найдет существенных различий и не поймет, о чем так горячо спорили их авторы. Наверное, так и есть. Общее дыхание времени сильнее, чем идейные противоречия, в большом времени культуры они стираются, и границы между позициями, которые современникам кажутся непримиримыми, теряют значение. Задача историка в том, чтобы по возможности реконструировать прошлое, но не для того, чтобы одну сторону оправдать, а другую осудить. В романе Умберто Эко «Имя Розы» рассказ о яростных спорах между средневековыми богословами заканчивается выводом мудреца: «Все были правы, все ошибались». Так он отвечает на наивный вопрос своего слушателя, кто же был прав.
Тем не менее я часто жалею, что и сейчас мало читаю современную литературу и завидую, например, Игорю Олеговичу Шайтанову, выступающему одновременно и в роли историка литературы, и в роли литературного критика, участника современного литературного процесса. Без чувства своего времени трудно написать что-то интересное о прошлом. История литературы деградирует, если развивается вне связи с современностью, становится исключительно археологической и перестает отвечать на злобу дня. В этом есть, конечно, опасность превращения науки в журналистику или, скажем, в эссеистику, но опыт русской науки о литературе показывает, что этой опасности можно избежать.
Про Виланда и рококо
Кристоф Мартин Виланд, герой моей первой диссертации — по предложению Н. А. Жирмунской она называлась «Идейная и творческая эволюция Виланда», — был с конца XIX века предметом упорных упражнений немецких диссертантов, входил, так сказать, в обязательную программу. У нас же о нем писали мало — была единственная заслуживающая внимания диссертация о его романах, написанная под руководством М. М. Бахтина. И мне тогда казалось, что можно и на этом поле сделать что-то свое: говоря конкретно, как можно теснее связать Виланда со стилем рококо, изящным, легкомысленным, меланхолическим, сентиментальным, насыщенным эротикой и иронией, чувством относительности любых принципов и теорий.
Рококо — стиль поздней, пресыщенной своими собственными богатствами культуры, декаданс эпохи Просвещения, ее «эллинистический период». Мне хотелось изобразить Виланда как рокайльного писателя. Об этом писали и раньше. Еще его младшие современники, «бурные гении», символически сжигали его эротические поэмы по обвинению в безнравственности. Безнравственность заключалась в шутливом отношении к ценностям, этическим и эстетическим, ко всему на свете, к жизни — вся жизнь расценивалась «как жемчужная шутка Ватто». Потом были немецкие работы о вольтерьянстве Виланда, о его французском вкусе и чуждости германскому «чувству жизни». Но я старался найти более точные аргументы, доказательства тому, что стиль рококо можно использовать как этикетку, обозначающую связь скептического эпикурейства и средств художественной выразительности.
Наверное, на мое прочтение Виланда влияла и та жизнь, на фоне которой я читал его тексты. Виланд, как и поэзия рококо в целом, сознательно конструировал гедонистическую утопию личной свободы по ту сторону реальности — вот что я старался доказать. Это общий признак повторяющейся культурно-исторической ситуации. По-немецки она называется Spätzeitlichkeit, когда все формы жизни и искусства, которые еще недавно требовали серьезного к себе отношения, теперь его больше не требуют, даже не допускают.
Об австрийской литературе рубежа веков
Австрийской литературой я тоже стал заниматься скорее в силу внешних обстоятельств. В начале 1990-х годов у нас началась настоящая культурная экспансия Австрии. Было создано несколько так называемых Австрийских библиотек при университетах в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Это были десятки тысяч книг, подаренных Австрийской республикой российским вузам с тем, чтобы больше вовлечь Россию в европейскую культуру. Я подумал, что если уж писать докторскую, то не испытывая недостатка в новейших изданиях и современной научной литературе. Кроме того, австрийская литература, пережившая на рубеже XIX-XX века яркий расцвет, была сравнительно мало изучена и с 1980-х годов начала привлекать к себе повышенное внимание во всем мире. Эта волна докатилась и до нас. В 1990 году Мераб Мамардашвили прочитал в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина лекцию на тему «Вена на заре ХХ века», где провел аналогию между распадом Советского Cоюза и крушением Австро-Венгерской империи, распавшейся в результате Первой мировой войны: «Ведь предупреждала же нас Вена, только мы не слышали!». Но аналогии проводились и раньше — не с Советским Cоюзом, а с Российской империей, соседней с Австро-Венгрией «экспериментальной лабораторией грядущего светопреставления», как говорил об Австрии Карл Краус. Духовный опыт обеих культур, австрийской и русской, обнаруживает явные признаки сходства уже на рубеже веков.
Тема «Венский модерн в смысловом пространстве русской культуры» перекликалась с моим интересом к поздним эпохам, к декадансу (в Вене этот период называли «веселым апокалипсисом»), и до известной степени воспринималась мной как продолжение рококо. И потом: эта тема давала возможность расширить поле компаративных исследований — в сторону того, что я называл тогда имплицитной компаративистикой или метагерманистикой, германистикой во второй степени. Задачу русского исследователя иностранной литературы можно видеть не только в том, чтобы выявлять контакты и аналогии, но и в том, чтобы заново и «по-своему» осмыслить уже известный материал, последовательно перемещая его в русскую перспективу, т. е. рассматривая его как бы в переводе на язык русской культуры. Мои работы об австрийской литературе и представляли собой опыт такой перекодировки, сознательного использования своей «вненаходимости» по отношению к предмету изучения. Тем более что и контактов, и прямых свидетельств взаимного интереса между Венским модерном и русским символизмом было немало.
Очевидно, что так поставленная задача была задачей герменевтической, попыткой понимания на основе гадамеровского «слияния горизонтов» — горизонта иностранного текста и его инокультурного толкователя. Точкой отсчета служил мне взгляд на историю культуры как на запас форм, в которые каждый читатель вкладывает собственный смысл, а лучше сказать — производит смысл, подсказанный ему его культурой и временем. Примечательно, что австрийские рецензенты приняли мою книжку о венских модернистах («Молодая Вена» и русская литература) не без возражений, в ряде случаев как бы не узнали хорошо знакомого им материала. Меня это скорее обрадовало, вспомнилось то, что С. Аверинцев писал о Бахтине: он строит русскую философию смеха на размышлениях о Рабле и других явлениях западноевропейской традиции.
Топ-5 любимых австрийских писателей
Недавно я с удивлением прочитал, что Томас Манн в числе пяти авторов, которых он взял бы на необитаемый остров, назвал и Пушкина. Почему Пушкин? Есть все основания говорить о значении для него Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Мережковского — но выбор Пушкина кажется мне загадочным.
Из австрийских писателей, которые были важны для меня и для моей работы, я бы назвал Шницлера, Гофмансталя, Музиля, Кафку и Рильке, из философов — Витгенштейна, меня восхищает изысканно аскетическая проза его «Логико-философского трактата», и Фрейда как мыслителя эпохи «переоценки всех ценностей», эпохи кризиса автономной человеческой личности.
 Семья Витгенштейнов в Вене, 1917. Людвиг — крайний справа. Источник
Семья Витгенштейнов в Вене, 1917. Людвиг — крайний справа. Источник
Про Фрейда
Фрейда в СССР не печатали — после бурного увлечения «глубинной психологией» в 1920-е годы, — и я впервые прочел его произведения уже в годы перестройки. Его тексты вызывают ощущение двойного дна. За аналитическим дискурсом скрывается мифологический подтекст, психоанализ и психотерапия негласно нацелены на создание новой антихристианской религии, религиозной утопии «нового человека».
Давно замечено, что эпохи культурного перелома обусловливают тенденцию к универсализации знания. Появляется потребность придать науке статус мировоззрения, статус идеологии. Психоанализ — видимо, последний опыт создания scientia universalis в европейской культуре.
Фрейд испытал сильное влияние Ницше, хотя и не любил в этом признаваться. В автобиографическом очерке «Автопортрет» (я переводил его для русского собрания сочинений) Фрейд признается, что долгое время медлил с изучением Ницше. Он опасался найти у него слишком явное сходство со своими собственными мыслями, испытывал «страх влияния». Homo psychoanalyticus, до конца прошедший (а до конца не бывает) психоанализ, — это, конечно, своего рода сверхчеловек: его Я способно вместить хаос бессознательного.
Наряду с Ницше большое значение для Фрейда имел Достоевский. Он способствовал эмансипации Фрейда от естественно-научного материализма. Это допускает аналогию с писателями венского модерна, которые, опираясь на Достоевского, преодолевали господство натурализма.
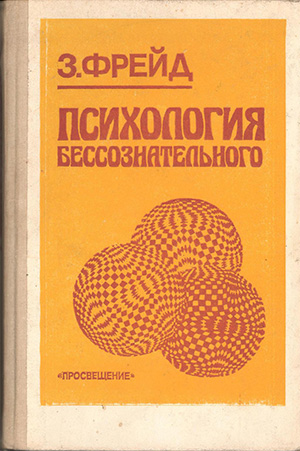 З. Фрейд. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1990
З. Фрейд. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1990
Когда теория Фрейда проникает в пространство русской культуры, граница между наукой и мировоззрением — в психоанализе с самого начала нечеткая — окончательно размывается. Семен Людвигович Франк утверждал, что Фрейд, открыв бессознательное, испугался собственного открытия. Франк связывал открытие бессознательного с прорывом к мистическому сознанию, которое Фрейд считал иллюзией. Для русских мыслителей, провозгласивших «революцию духа», Фрейд был все еще слишком консервативен, буржуазен. Русская культура Фрейда радикализировала. Это относится к символизму и религиозной философии, к авангарду и фрейдомарксизму.
В качестве практической терапии психоанализ приживался у нас неважно, далеко не так успешно, как в Америке. Возможно, это было связано с особенностями культурного сознания, воспитанного на головокружительных психологических парадоксах Достоевского. Л. Я. Гинзбург вспоминала, что среди ее сверстников преобладал тип «интеллигента с надрывом»: перебои психического аппарата, тяга к интроспекции, культ собственных душевных переживаний. Парадокс заключался в том, что эти «нервные люди», не моргнув, выносили ситуации, от которых нормальный человек должен лезть на стену; их отличительным свойством были железные нервы. Это важное свидетельство русской авторефлексивности, которая делала психоанализ, с одной стороны, желанным, с другой — почти излишним.
Про библиотеку
В юности я пользовался библиотекой Марии Лазаревны Тронской, которая жила в большой профессорской квартире на Невском. О таком собрании книг, как у Тронских, я мог только мечтать. У нас дома специальных книг по филологии и философии не было. То, что меня интересовало, я читал в городских библиотеках или покупал у букинистов, где было тогда еще много старых немецких изданий. Однажды я набрел на книги из библиотеки Берковского — их было легко опознать по экслибрису.
Сколько у меня книг сейчас, я точно не знаю, они занимают несколько шкафов. О некоторых забываешь, где их читал, — дома или в библиотеке, иногда проще пойти в библиотеку, чем искать дома. Мой внук жалуется, что книг слишком много. Недавно он спросил, например, зачем нам полный немецкий Брокгауз, тем более что есть и русское издание. Мое объяснение, что они разные, его не особенно убедило. Он вообще считает, что почти все можно найти в интернете — если правильно искать. Тогда мы провели эксперимент: знакомый переводчик попросил помочь найти нужные ему для комментария сведения об одном французском герцоге XVII века; ни в гугле, ни в новых биографических словарях о нем не было ни слова, зато в немецкоязычном Брокгаузе нашлась исчерпывающая статья.
Несколько хороших книг я получил в подарок от Марии Лазаревны — сборники ОПОЯЗа, первые издания «Эстетических фрагментов» Густава Шпета, поэтических сборников Ахматовой. От нее же я унаследовал старинный письменный стол, за которым работал ее муж, Иосиф Моисеевич Тронский, один из крупнейших специалистов по античной литературе, а до него — историк и философ Л. П. Карсавин.