«Меня поразило, какая же занудная белиберда „Майн Кампф“ Гитлера»
Читательская биография исторического социолога Георгия Дерлугьяна. Часть первая
Профессор Нью-Йоркского университета Абу-Даби Георгий Дерлугьян, ученик одного из живых классиков макросоциологии Иммануила Валлерстайна, занимает в российском интеллектуальном поле уникальное место. Благодаря его интервью, публичным лекциям и статьям историческая социология сначала приобрела известность в России за пределами академических кругов, а затем при неизменной поддержке Дерлугьяна на русском вышли многие фундаментальные работы ключевых макросоциологов и макроисториков (того же Валлерстайна, Майкла Манна, Уильяма Мак-Нила, Ричарда Лахманна и других). В интервью, которое взял у него Николай Проценко, Георгий Матвеевич не только поделился своей читательской биографией, но и рассказал о том, как «неразделимые на отдельные дисциплины романтика и любопытство» привели его в эту неисчерпаемую область знания, и порекомендовал важнейшие тексты ведущих макросоциологов, в основном уже переведенные на русский язык.
«С Даррелла началась моя страсть к Африке»
Какими были ваши первые читательские впечатления и круг чтения в краснодарской школе? В МГУ вы изучали африканистику — повлияло ли прочитанное в школьные годы на решение заняться этой наукой?
Мой круг чтения поначалу был вполне обычным для советского ребенка 1960–1970-х годов — он складывался из того, что удавалось найти в краснодарской Детской библиотеке имени братьев Игнатовых. Названия первых книг, по которым я учился читать в свои шесть-семь лет, помню до сих пор: «Астрономия в картинках», «Роботы Рам и Рум», «Военные хитрости древних славян». Далее шли сборники «заседаний КОАППа» Майлена Константиновского. Кстати, их я перечитываю и сейчас, особенно вышедшее уже после перестройки «Кошмарное преступление в курятнике», где председатель Кашалот говорит об основах «Кальмарксизма» (ловли кальмаров на больших глубинах в океане), или слушаю записи КОАППа, когда веду машину по пустому шоссе через аравийскую пустыню.
 В те годы все, конечно, зачитывались научной фантастикой и научно-популярными сборниками из серии «Эврика!» — столько было всего про Атлантиду и снежного человека, про погружения Кусто… Теперь все это выглядит несколько наивно. А вот остроумный и наблюдательный Джеральд Даррелл ничуть не устарел. Его описание экспедиции в Камерун за животными для зоопарка («Перегруженный ковчег») я прочел в третьем или четвертом классе, а теперь перечитываю в оригинале. Сплошь перлы британского юмора: «В корзинке оказались две крупные жабы с плотно поджатыми губами. Своим презрительно-удивленным видом они напоминали двух престарелых графинь, случайно запертых в общественном туалете». С Даррелла и началась моя страсть к Африке, а еще с почтовых марок Бурунди, на которых изображены разные животные. Их латинские названия я расшифровывал в библиотеке по словарю, сверялся с томами «Мира животных» Игоря Акимушкина и даже со справочником под редакцией академика Банникова. Написано Kobus ellipsiprymnus — а в переводе оказывается… обыкновенный водяной козел, распространенный вид антилопы. У меня на стене висит шкура такого козла, его еще в 1984 году подстрелили наши геологи в Мозамбике, на речке Муканья-Вузи, притоке Замбези (очень кушать нам хотелось). А шкуру выделал один таежник и подарил мне на день рождения. Позднее одна из моих коллег в Америке довольно двусмысленно пошутила: «Несовременные взгляды Дерлугьяна относятся не к XIX веку. Он целиком из XVIII века». В общем, наверное, так и есть.
В те годы все, конечно, зачитывались научной фантастикой и научно-популярными сборниками из серии «Эврика!» — столько было всего про Атлантиду и снежного человека, про погружения Кусто… Теперь все это выглядит несколько наивно. А вот остроумный и наблюдательный Джеральд Даррелл ничуть не устарел. Его описание экспедиции в Камерун за животными для зоопарка («Перегруженный ковчег») я прочел в третьем или четвертом классе, а теперь перечитываю в оригинале. Сплошь перлы британского юмора: «В корзинке оказались две крупные жабы с плотно поджатыми губами. Своим презрительно-удивленным видом они напоминали двух престарелых графинь, случайно запертых в общественном туалете». С Даррелла и началась моя страсть к Африке, а еще с почтовых марок Бурунди, на которых изображены разные животные. Их латинские названия я расшифровывал в библиотеке по словарю, сверялся с томами «Мира животных» Игоря Акимушкина и даже со справочником под редакцией академика Банникова. Написано Kobus ellipsiprymnus — а в переводе оказывается… обыкновенный водяной козел, распространенный вид антилопы. У меня на стене висит шкура такого козла, его еще в 1984 году подстрелили наши геологи в Мозамбике, на речке Муканья-Вузи, притоке Замбези (очень кушать нам хотелось). А шкуру выделал один таежник и подарил мне на день рождения. Позднее одна из моих коллег в Америке довольно двусмысленно пошутила: «Несовременные взгляды Дерлугьяна относятся не к XIX веку. Он целиком из XVIII века». В общем, наверное, так и есть.
Выбор африканистики немного позднее определили романы Жюля Верна, дневники Миклухо-Маклая и Ливингстона, альбомы чешских путешественников-автомобилистов Ганзелки и Зикмунда. Особым потрясением стала книга «В старой Африке» Дмитрия Быстролетова, хотя тогда я не понимал, что именно попало мне в руки и какую жизнь прожил этот суперразведчик.
Ну а первые слова на суахили я узнал из «Снегов Килиманджаро» Хемингуэя и книг корреспондента ТАСС в Кении Сергея Кулика. Да вы и сами их знаете: симба (лев), тембо (слон), джамбо! (привет!) — и хакуна матата.
«Коллоквиализмы уровня Дональда Дака»
Ваши студенческие годы в МГУ на рубеже 1970–1980-х годах пришлись на расцвет советского самиздата, интересовались ли вы им? В 1983 году вы уехали в Мозамбик — что из «возвращенной литературы» вам удалось прочесть до отъезда?
Самиздата и, как вы выразились, «возвращенной литературы» я долго не знал. Для меня, провинциала неинтеллигентского происхождения, он оставался за горизонтом. Не таким местом был мой Краснодар, да и специальный Институт стран Азии и Африки при МГУ.
Впрочем, втайне антисемитствовавший однокашник, сын какого-то чина КГБ, однажды доверительно поделился со мной книгой «Майн Кампф» Гитлера. Меня поразило, какая же это занудная белиберда, но более всего то, что перевод Григория Зиновьева (!) был издан в СССР еще в 1933 году с грифом «для партработников».
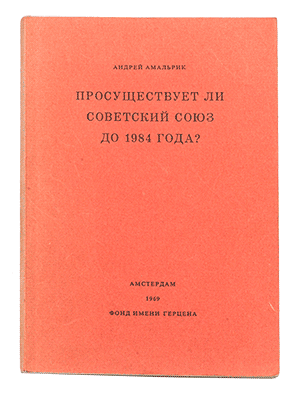 Позднее, уже неплохо познакомившись с эмигрантскими и диссидентскими ремонстрациями [англ. remonstrance — протест, возражение — прим. ред.], я почувствовал скорее разочарование: и это все? Исключением стал памфлет «Просуществует ли СССР до 1984 года?» Андрея Амальрика, который я обнаружил уже в библиотеке Бингемтона. Там содержался довольно убедительный анализ перспектив войны в странах третьего мира и особенно в Китае; в эту войну, по расчетам Амальрика, СССР должен был ввязаться к 1979 году. А начало нашего вторжения в Афганистан я видел воочию, где-то под Кандагаром погиб мой друг — тело было так изуродовано, что его хоронили в закрытом гробу.
Позднее, уже неплохо познакомившись с эмигрантскими и диссидентскими ремонстрациями [англ. remonstrance — протест, возражение — прим. ред.], я почувствовал скорее разочарование: и это все? Исключением стал памфлет «Просуществует ли СССР до 1984 года?» Андрея Амальрика, который я обнаружил уже в библиотеке Бингемтона. Там содержался довольно убедительный анализ перспектив войны в странах третьего мира и особенно в Китае; в эту войну, по расчетам Амальрика, СССР должен был ввязаться к 1979 году. А начало нашего вторжения в Афганистан я видел воочию, где-то под Кандагаром погиб мой друг — тело было так изуродовано, что его хоронили в закрытом гробу.
Особая история и удовольствие — «Москва 2042» Войновича, которую мне одолжил уже в Мапуту Лев Эрнестович Крюгер, человек удивительной судьбы. Он родился в 1912 году в Сибири в семье ссыльного врача-эсера, в 1920-м Крюгеры переехали в Харбин, спасаясь от большевизма, а он в 1945-м бежал подальше, в Шанхай, оттуда в холодный послевоенный Лондон, и в конце концов сделался профессиональным охотником и сафари-гидом в колониальном Мозамбике. В 1975 году, с наступлением независимости, он перебрался в расистскую ЮАР. Так всю жизнь Крюгер бежал от гнавшихся за ним по всему свету коммунистов, в конечном счете он получил гражданство в Германии, на родине предков. Более экзотического знакомства в моей жизни, пожалуй, не было.
А что из прочитанного в университете было самым важным для последующей научной карьеры? Насколько я знаю, вы читали в том числе книги на португальском.
Португальский я выучил только на четвертом курсе, в основном сам, по самоучителю Евсюкова. Первая книга, прочитанная на португальском (если можно назвать это книгой), — комиксы об утенке Дональде, одолженные соседкой по общежитию Кармелиндой Паррейра. Комиксы помогают освоить разговорный язык. Чтение на португальском продолжилось, как ни странно, «Бравым солдатом Швейком» (я знал этот роман по-русски почти наизусть, мог цитировать целыми главами). Потом, уже в Библиотеке иностранной литературы, я читал разные архивные сборники, старинную переписку конкистадоров, миссионеров и колониальных губернаторов. В результате мой португальский превратился в причудливую смесь из коллоквиализмов [слов, употребляющихся только в разговорной речи — прим. ред.] уровня Дональда Дака с напыщенными архаизмами.
А вот первая книга на английском была сугубо научной. На первом курсе, в сентябре 1978 года, преподаватель этнографии Африки Элеонора Сергеевна Львова рекомендовала списки литературы на немецком, французском и английском языках, мило добавив, что по-русски ничего подобного пока нет — эти книги нам предстоит написать самим. Первую страницу «Африканской цивилизации» Бэзила Дэвидсона я расшифровывал со словарем, засиживаясь далеко за полночь и с ужасом осознавая, что страниц еще сотни… Теперь я сам пишу книги по-английски, но иногда вздрагиваю, вспоминая тот опыт.
«Советский, который не такой, как все они»
А какая в 1980-х годах была книжная культура в Мозамбике?
В Мозамбике того времени воцарилась высокая культура революционного интернационала: марксисты-перипатетики из Индии, Франции, Англии и Скандинавии, левые политэмигранты из Чили и ЮАР. В практически неграмотной стране в кинотеатрах показывали фильмы Бергмана, Бунюэля, Куросавы, Вайды и Коста Гавраса: так, большим скачком, пытались повысить культурный уровень. Вообразите, как я обалдел, угодив на кинокомедию «Монти Пайтон и священный Грааль» в осажденном городке Тете на берегах Замбези, — и пересмотрел фильм трижды. В некоторых кинотеатрах крутили гонконговские боевики про кунг-фу, но на афишах писали: «Мы показываем это с глубоким сожалением, что в нашей отсталой стране есть пока те, кому такое нравится». Над кассой кинотеатра висел плакат, на котором тушью было написано: «Граждане нашей революционной Родины! Выстраивайтесь в очередь — это демократическая институция, известная со времен Французской революции. Уважайте очередь!»
 В книжных магазинах, «ливрариях», были только брошюрки с речами президента Саморы Машела. Однако в Университете Мапуту, куда я пробирался тайком от нашего посольства, в библиотеке на полках лежали россыпи левацко-ревизионистской литературы: Троцкий, Эрнст Мандель, Милован Джилас, Андре Гундер Франк, Перри Андерсон, биография Бухарина, написанная Стивеном Коэном, книги про махновщину, а также ценнейшая литература по истории и антропологии — например, «Экономика каменного века» Маршалла Салинса.
В книжных магазинах, «ливрариях», были только брошюрки с речами президента Саморы Машела. Однако в Университете Мапуту, куда я пробирался тайком от нашего посольства, в библиотеке на полках лежали россыпи левацко-ревизионистской литературы: Троцкий, Эрнст Мандель, Милован Джилас, Андре Гундер Франк, Перри Андерсон, биография Бухарина, написанная Стивеном Коэном, книги про махновщину, а также ценнейшая литература по истории и антропологии — например, «Экономика каменного века» Маршалла Салинса.
Западные леваки меня не очень привечали. Для них я был представителем советского неоимпериализма. Библиотекарь, сдержанно-сосредоточенный англичанин Колин Дарч, следил искоса за охапками книг, которые я жадно перетаскивал к рабочему столу, и однажды вдруг защитил меня лаконичной формулировкой: «Он советский, но не такой, как все они».
А ваше знакомство с исторической макросоциологией произошло тогда же, когда вы познакомились с Иммануилом Валлерстайном, или оно все же в том или ином виде состоялось раньше? Помните ли вы, когда в вашей жизни появился сам этот термин — «историческая макросоциология»?
О Валлерстайне я впервые услышал еще в 1980 году на лекциях по новой истории Азии и Африки Андрея Ильича Фурсова, который мог, задорно подмигнув, сказать: «Тут мы исчерпали нашу марксистско-ленинскую теорию, поэтому придется воспользоваться псевдомарксистской теорией американца Иммануила Валлерстайна». Впоследствии мы с Андреем Ильичом очень разошлись во взглядах, однако я, конечно же, благодарен ему за те лекции.
Томики Валлерстайна находились в библиотеке ИНИОНа (увы, ныне сгоревшей), куда я пробирался также не вполне законно — по справке, с большим авансом представлявшей меня дипломником (на самом деле я был лишь второкурсником), которую выдали с понимающей улыбкой добрые женщины из учебной части. Вообще, читать запрещенные умные книги — удовольствие особое. О, сокровища советских спецхранов! Так что моя первая встреча с Валлерстайном осенью 1987 года, уже во вторую мою командировку в Мозамбик, состоялась благодаря юношески-заносчивой записке: «Уважаемый ИВ, прочтя ваши книги еще в Москве, я остался в сомнении и даже не согласен…». И далее по пунктам, в основном с недоумением по поводу утверждения, что СССР всего-навсего полупериферийная военная держава, в нерешительности застрявшая на пути к капитализму. Записку пришлось передавать через кубинскую разведчицу, с которой я регулярно играл в нарды и пил чай. Валлерстайну сделалось любопытно поглядеть на «советского, который не такой, как все они».
Встречу назначили под раскидистой жакарандой на углу авениды Джулиуса Ньерере и Мао Цзедуна, напротив легендарного отеля «Полана», куда мечтал попасть старый британский разведчик в романе Грэма Грина. Тут приехал со своей лихой охраной, перепоясанной пулеметными лентами, полковник Сержиу Виейра, шеф тайной полиции — некогда революционный поэт и убежденный троцкист, впоследствии олигарх, по слухам, сделавший состояние на поставке куриных окорочков… Валлерстайн, без преувеличения, спас тогда мне жизнь, обернув дело всего лишь шуткой.

Отель «Polana», Мапуту
Фото: ebay.ie
Термин «историческая макросоциология» принадлежит не Валлерстайну (он отдает предпочтение единой «исторической социальной науке»), а Рэндаллу Коллинзу. Коллинз ввел это понятие много позже, в середине 1990-х, когда я только начинал преподавать в Мичиганском университете. Обзорные статьи Рэндалла с его любимым выражением «кумулятивное накопление способов объяснения социального мира» очень помогли мне в составлении целостной карты различных социологических течений.
Азы макросоциологии: микровведение
Насколько сильно субъективное начало в макросоциологии? Как биографии и характеры Валлерстайна, Коллинза и Манна отразились в их книгах?
В своем завещании Бурдье так оценивал творчество неизменно популярного в России Мишеля Фуко (вот уж бросил бомбу напоследок): «Три факта полностью его объясняют. Во-первых, Фуко из буржуазной семьи в фазе экономического упадка, поэтому стал профессором. Во-вторых, он был гомосексуалистом с глубокими психиатрическими комплексами, что окрашивает все его рассуждения и выбор предмета. Третье не факт, но скорее следствие первых двух: Фуко вообразил себя модным философом». Сам Бурдье был из безземельных крестьян-батраков горного Беарна, и свою драчливость он относил к комплексам социальной неполноценности, которые ему внушали парижские буржуазные интеллектуалы. Его габитус — весьма маскулинный и мускулистый. И совсем другое дело — безукоризненно вежливый, старомодный венский интеллигент Валлерстайн или сын американского дипломата Коллинз, проведший часть детства в посольстве США в Москве, еще в сталинские времена.
Ограничусь парой историй. В конце 1990-х, в канун нового тысячелетия, проходило множество конференций на тему «то-то и то-то в XXI веке». Например, социология в XXI веке. Выходит математический моделист социальных сетей и говорит, что будущее дисциплины — в математизации. Феминистка спорит с ним: главное — это гендер и дискурсы, и так далее, пока не доходит очередь до Валлерстайна. Он ровным голосом внушительно произнес: «Коллеги, социологии в XXI веке не будет. Она на наших глазах вымирает. Однако есть два способа вымереть: почетный и позорный. Будет позорно, если мы окончательно утратим интерес общества, продолжая дробить нашу дисциплину на все большее количество нишевых гетто (тут по-русски напрашивается слово „междусобойчик”, хотя Валлерстайн бы себе такого выражения не позволил.) Но есть и почетное вымирание, путем укрупнения социологии во всех направлениях — в экономике, этнографии, культуре, истории. В этом случае возникнет мощная единая дисциплина об обществе, как некогда из ботаники и зоологии появилась современная биология. В действительности наука организуется политически, путем соперничества движений. К этому я вас призываю».
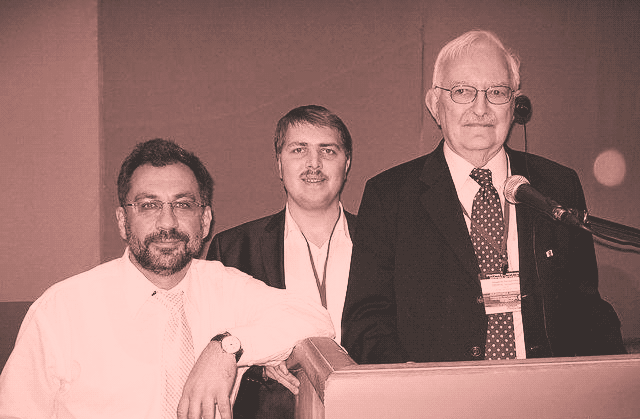
Георгий Дерлугьян c Иммануилом Валлерстайном и его переводчиком Алексем Черняевым
Фото: предоставлено Георгием Дерлугьяном
Валлерстайн никогда не отвергал сильную теорию по идеологическому признаку. Поэтому он последователь не только Маркса, но и либерала Вебера, республиканца Броделя и откровенного консерватора Шумпетера, глубоко понимавшего динамику капитализма. Скептицизм в отношении последних публикаций Энтони Гидденса и Хабермаса, чьи бестселлеры читать стоит лишь в порядке ознакомления, относится не к их вполне очевидной идеологии, а к плоскости апологетических построений. Да, Валлерстайн мог и отсоветовать читать что-то из того, что аспирантам казалось последней вершиной.
Коллинз… Как-то у меня дома, в Чикаго, за ужином было упомянуто имя Валлерстайна, и мой маленький сын весело встрял в разговор: «А мы с дедушкой Иммануилом играли в прятки у него в кабинете. Там столько книжных шкафов!». На что Коллинз задумчиво произнес: «Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы мой сын играл в прятки с Максом Вебером?» Тут уже я отодвинул тарелку и, полный собственных переживаний, спросил: «Вы всерьез полагаете их сравнимыми фигурами в социологии?» Рэндалл ответил абсолютно в духе своей теории эволюции социальных сетей творчества: «Не нашим поколениям судить. Кем считался Вебер при жизни? Едва ли не клиническим сумасшедшим, писавшим запоем между глубокими депрессиями. Классиком он стал уже в ХХ веке. Поставленные Вебером вопросы оказались центральными для последующих поколений социологов. Если в XXI веке сохранится социология, то ей придется иметь дело в основном с миросистемными вопросами, сформулированными Валлерстайном».
Какие книги по исторической макросоциологии вы бы посоветовали тем, кто хочет перейти от самых общих представлений к более глубокому пониманию этой дисциплины?
Читателям придется трудно — книги в основном объемные и нередко многотомные. Приходится сразу овладевать громадными пластами истории. Зато интересно! Я уже назвал Валлерстайна и Коллинза, их надо читать целиком. Заодно можно оценить ясность их мысли. Валлерстайн как-то пошутил: «Это в Париже требуется изъясняться дискурсами, а у нас в Нью-Йорке делают дело (we do business)».
Только что вышли на русском четыре тома «Источников социальной власти» Майкла Манна, важнейшего из оппонентов Валлерстайна (Манн начинает с древней Месопотамии). Непременно нужно читать Баррингтона Мура, Чарльза Тилли и Теду Скочпол, которые шли другим путем к объяснению динамики революций, демократизации и в целом современных государств Запада.
О том же, но в другом ключе, писал Джованни Арриги, шутивший, что если для большинства коллег капитализм — теоретическая абстракция, то для него, наследника старинной буржуазной династии из Милана, капитализм и власть — это разговоры родителей за обеденным столом. И ни в коем случае не следует забывать послевоенных мегаисториков Уильяма Мак-Нила и Фернана Броделя.
К этим классическим именам надо добавить экономического историка Роберта Аллена. Его «Глобальная экономическая история» — шедевр синтеза, причем полностью соответствующий скромному подзаголовку «Краткое введение». Карманная книжечка.
Два ведущих историка ХХ века, чьи имена до сих пор были у нас малоизвестны, — Стивен Коткин и Адам Туз, автор работ «Всемирный потоп. Великая война и переустройство мирового порядка, 1916–1931 годы» и «Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики». Туз перевернул общепринятые представления об экономической подоплеке двух мировых войн и Великой депрессии и показал, какую громадную роль уже тогда играла Америка в попытках изменить геополитический расклад сил и стабилизировать капитализм.
Из гитлеровского окружения с цифрами в руках на необходимости скорейшего уничтожения пленных и населения оккупированных территорий настаивал эсэсовец, оберштурмбаннфюрер Герберт Бакке (между прочим, выходец из Российской империи, родившийся в Батуми). Однако Бакке был всего-то заместителем рейхсминистра сельского хозяйства. Его чудовищные расчеты пайков хлеба доказывали фюреру, что в условиях большой войны для побежденных просто не хватит продовольствия.
В «Потопе» также есть объяснения позиций кайзеровской Германии на переговорах с большевиками в Брест-Литовске и того, почему Берлин так настаивал на независимости Украины. Речь шла все о том же хлебе и угле. Также становятся понятнее жесточайшие приоритеты сталинской коллективизации и индустриализации — сырье для военной промышленности и снабжение ее работников.
Второй незаурядный историк современности — Стивен Коткин, махровый консерватор, антикоммунист, колкий на язык и одновременно гений. В настоящий момент он пишет биографию Сталина в трех томах, из которых уже вышли первые два, оба по тысяче страниц. В первом томе Сталин выпадает из повествования на сотни страниц, потому что до 1917 года от него в истории ничего не зависело. Коткин объясняет, какие геополитические изменения — например, возникновение при Бисмарке объединенной Германии и модернизирующейся Японии с двух сторон от России — привели к краху царской империи и какие задачи пришлось решать Ленину и Сталину, унаследовавшим вместе с бывшей империей такое окружение. Скажу лишь, что ни в какой социализм с человеческим лицом или «бухаринскую альтернативу» сталинизму Коткин не верит. Сталина он описывает одним английским словом awesome, которое на русский вернее всего переводить как «великий и ужасный». На его месте Коткин не видит никого другого. Трудоголик, параноик — и самоучка в мировой политике.
Сейчас на русском выходит небольшая книга Коткина о причинах распада СССР, «Армагеддон предотвращенный». И у Туза, и у Коткина, как мы видим, размах макроисторический, но детализация при этом поражает воображение.
1/2 Григорий Дерлугьян и мозамбикцы Фото: из личного архива 2/2
Григорий Дерлугьян и мозамбикцы Фото: из личного архива 2/2  Григорий Дерлугьян на стрельбище под городом Тете Фото: из личного архива
Григорий Дерлугьян на стрельбище под городом Тете Фото: из личного архива Автор совсем с другой стороны — Виктор Либерман, историк-бирманист из Мичиганского университета, который совершил подлинный научный подвиг в своей двухтомной сравнительной истории Юго-Восточной Азии. Либерман открывает для нас фактически отдельную миросистему исконных государств экзотической Азии — средневековые Бирма, Сиам, Камбоджа, Ява, Малакка — причем в последовательном сравнении со средневековой Францией и Киевской Русью! Поэтому его исследование и названо «Странные параллели: Юго-Восточная Азия в глобальном контексте, 800–1830 годы».
Кстати, вспомните, кто у нас некогда сопоставлял средневековую Бирму с Русью и Грузией времен царицы Тамары? Да, конечно, Игорь Можейко, он же фантаст Кир Булычев, в замечательной и ничуть не устаревшей книге «1185 год. Восток — Запад».
Далее — Дмитрий Ефимович Фурман. При его жизни мы шутили, что Митя Фурман — наш Макс Вебер. А оказалось, что он действительно сдвинул грандиозное дело сравнительно-исторического изучения мировых религий и цивилизаций. На Западе профессионалы в отдельных областях создали глубокие исследования, но никто не рискнул после Вебера обобщить все это. А у нас, в советской интеллектуальной изоляции, нашелся гений-самоучка Дмитрий Фурман. Как всегда, потребовался британец Перри Андерсон, полиглот, владеющий в том числе и русским, чтобы оценить и нам самим растолковать подлинный размах Фурмана. Две громадные статьи Андерсона, появившиеся летом 2015 года в London Review of Books, мы перевели на русский, теперь ищем журнал для их издания, что оказалось сегодня в России не так и просто.
Тематика работ Фурмана очень разнообразна — с чего вы посоветуете начать?
Стоит начать со статьи 1988 года «Выбор князя Владимира», о специфике православия и его роли в истории последнего тысячелетия. У Фурмана вы найдете работы и о религиях Индии, Китая, об армянской форме христианства, об исламе и иудаизме, и особенно о протестантизме. Фурман писал удивительно ясно.
Еще одно из отечественных имен — ныне здравствующий Павел Юрьевич Уваров, по анкетным данным историк Франции XVI века, но на самом деле он обобщил дебаты по Средневековью и феодализму, от Японии и Кореи до Европы. Послушайте его минилекции на портале «ПостНаука».
Не забудем также, что среди нас находится такой титан, как крестьяновед Теодор Шанин. Вкупе с ним непременно надо читать Джеймса Скотта, уникального политолога-анархиста и автора мировых интеллектуальных бестселлеров. Одни названия чего стоят! «Моральная экономика крестьянина», «Оружие слабых», «Искусство быть неподвластным», «Благими намерениями государства: Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни».
Начать же погружение в историческую социологию советую с работ Ричарда Лахманна «Капиталисты поневоле: конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени» и небольшой книжки с доходчивым названием «Что такое историческая социология?».