«Меди в легких у нас — на пятак»
Декларативно непоследовательный очерк об образе Екатеринбурга в литературе и жизни
Публицист, переводчик, сотрудник Уральской биеннале Дмитрий Безуглов окинул родной Екатеринбург распаленным взглядом и пришел к выводу, что мифу о едином образе города можно противопоставить попытку обрисовать его в лоскутной манере — как конгломерат легенд, субъективных интерпретаций и литературных версий. Очерк подготовлен в рамках проекта «Горького» и фонда Михаила Прохорова «Маленькая Россия» — исследований большой литературы нестоличных городов.
Градостроитель Кевин Линч отмечал, что «чаще всего наше восприятие города отнюдь не последовательно», и этот очерк декларирует намеренную непоследовательность и разорванность. Монолитных мифов о Екатеринбурге учреждено достаточно, и мне скорее хочется забраться за официальные обелиски, пройти сквозь туман, о котором писал Дэвид Стаббз: «Наше сознание окутывает туман; туман неуверенности, не позволяющий нам создавать новые связи». Я полагаю, что погружение в этот туман, вычленение небольших сюжетов, освещение их — не ровным свечением Просвещения, но хаотичными вспышками — позволяют обнаруживать неочевидные и странные взаимосвязи. Надеюсь, я смогу их обозначить.
Поэт Федор Корандей в очерке о Тюмени нарекает ее «вечным нигде» русской литературы; Екатеринбург же можно представить вечным заводом, Левиафаном, который предлагает рабочему люду погружение под землю и дарует некоторую надежду на возможное из-под нее возвращение.
В суровые годы городского брендинга по России замелькали книги Чарльза Лэндри и Ричарда Флориды, а за ними улыбчивые люди, предлагавшие — не тревожа краеведов — поскорее найти идентичность города. Именно тогда мифотворец Алексей Иванов, вначале вытряхнувший в текст порядочно Перми, а потом провернувший сквозь себя немало Екатеринбурга, выпустил фотокнигу «Горнозаводская цивилизация».
Иванов реконструировал истории двухсот уральских заводов, работавших до революции, — в том числе и завод, из которого вышел «Катиринбурх», как в письме основателю де Геннину отрекомендовала город императрица Екатерина I.
В этой книге Иванов любовно раскладывает чугунные кирпичики, из которых складывается эта самая цивилизация, и на первых страницах рубит читателя сурово: Урал был горнозаводским, бежать было некуда, свободу рабочий люд выкупить мог, а вот изгнать из поля зрения заводы — не удавалось. «Жизнь рабочих строилась „по заводскому гудку”, и библейский вопрос про „человека для субботы” имел однозначный ответ: конечно, человек для завода».
Такая резкость суждений растворяет город, где барахтается послушный заводу человек, уводит город на фон. По крайней мере, везде побывавший и обо всем ядовито отозвавшийся Чехов в Екатеринбурге специфической фигуры точно не увидел: «В России все города одинаковы. Екатеринбург такой же точно, как Пермь или Тула». Впрочем, писатель сделал оговорку, указав на особый, промышленный характер жителей. «Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик». Больше о городе Антон Павлович не писал.
Чеховская скоропись, записки о трех днях пребывания в 1890 году, рисует грязное провинциальное нигде, в котором извозчики ни на что не годятся. В 1917 году же Борис Пастернак разглядел в Екатеринбурге чистый и степенный город — «как в Европе». Именно таким он предстанет в повести «Детство Люверс», опубликованной в 1922 году. Отец главной героини, Жени Люверс, игнорируя семейный обед, не притронулся к вилке и ножу, и «его прибор остался чистый и светлый, как Екатеринбург».
Возможно, чистым и светлым город представлялся поэту и бывшему мэру Евгению Ройзману — в 2014 году он задиссил собеседника емким твитом: «В душе у тебя грязь». В 2018 году команда проекта «Горнозаводская цивилизация» сжала перечисленные сюжеты, выпустив серию открыток о Екатеринбурге, на которых красуются и твит Ройзмана, и реплики Чехова. Но вернемся к Пастернаку.
Вечером его Женя Люверс, пережившая днем переезд в новую квартиру в Екатеринбурге, устала — «будто и она участвовала в оттискивании и перемещении тех тяжелых красот и надорвалась». Ей стало больно. День, полный важных событий, и дорогой ей образ города стали уходить в прошлое. В поисках своего, родного Урала она решила стремглав пробежать сквозь гостиную в кухню, «забыла, зачем вбежала, и не заметила, что ее Урала в Екатеринбурге нет, но заметила, как постепенно, подворно, темнеет в Екатеринбурге и как поют внизу, под ними».
И вот я, не будучи Женей, не пробегая из гостиной в кухню, пытаюсь увидеть тот, родной Урал: узнать образ города, сличить его с тем, как он записан в моей памяти; с тем, как он бытует в текстах. И я тоже его не замечаю, не могу узнать себя в виньетке Сергея Довлатова в «Чемодане», которой меня несколько лет изводили новые знакомцы: «Безуглова я знал давно. Человек он был своеобразный. Родом из Свердловска». Звучит похоже, но все не то.
Не замечаю потому, возможно, что город не вмещается в огнеупорный и негнущийся образ бесконечного завода, которому радовался Владимир Маяковский и который заваливал возгласами «ура!» Луи Арагон. Город не влезает в одну лишь эту конструкцию. Из нее выламывается воспетый тем же Алексеем Ивановым Ёбург («название вызывающее, наглое, хлесткое, почти непристойное»); в ней не может обжиться его предшественник, Свердловск.
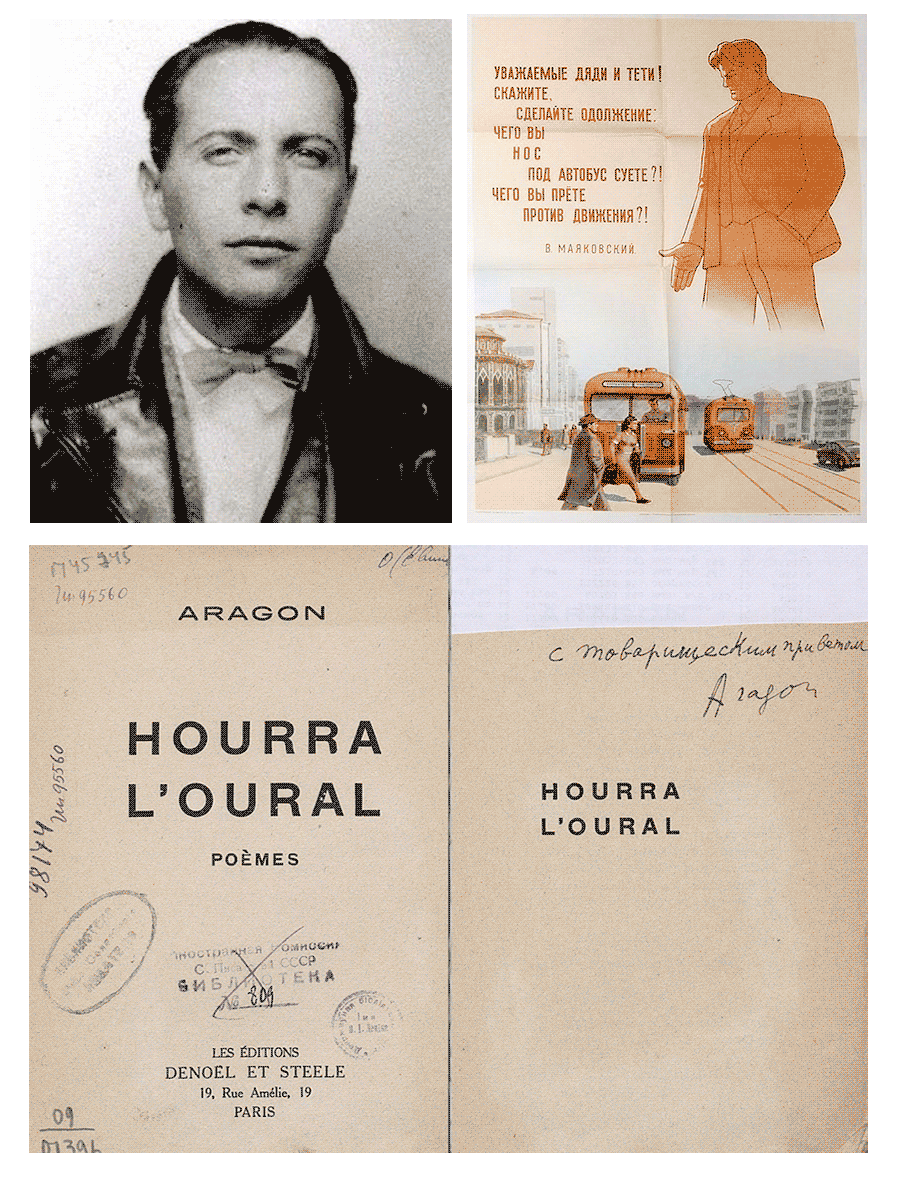
Портрет Луи Арагона и его автограф на издании Hourra l'Oural / советский плакат с изображением Свердловска и цитатой из Маяковского
Фото: архив Национальной библиотеки республики Беларусь / Uraloved.ru
В обеих ипостасях город создавал собственные центры вещания, «тусовки». Принадлежность к ним заряжала участников, обращала бытовые склоки в сражения за право говорить точно. Иные из них оказались всесоюзно — всероссийски — известными: как Свердловский рок-клуб (о нем Илья Кормильцев желчно писал: «знаменитый свердловский рок в реальности представлял собой группу человек из десяти, между собою задолго и накрепко переругавшихся») или легендарные журналы — толстый «Урал» и важный для фантастов «Уральский следопыт», существовавший при Средне-Уральском книжном издательстве.
Потому, вероятно, мне ближе не довлатовская виньетка, а нервный, избыточный текст писателя Андрея Матвеева, в годы рок-клуба литовавшего песни уральских групп. Дмитрий Бавильский в некрологе «Памяти Андрея Матвеева, частного лица» пишет о январском номере «Урала» от 1988 года, в котором силами Матвеева и других редакторов опубликовали неформальных и непечатавшихся писателей: «„экспериментальный номер” „Урала” „официально” запустил цепную реакцию обновления всей литературной инфраструктуры».
Мимеографическая революция 1960-х в США, которую не представить без Лоуренса Ферлингетти, Джека Керуака и отчасти Берроуза — восстание молодых прозаиков и поэтов, взявшихся атаковать толстые журналы и печатать свои зины, — в Советском Союзе обернулась бунтом «толстяков», и Матвеев был одним из зачинщиков.
Тот январский номер одновременно маркировал разлом эпохи и представлял публике авторов, которые еще недавно могли меняться текстами лишь в кругу друзей. И как раз в романе Матвеева «Замок одиночества», опубликованном во все том же журнале «Урал» (№ 10 за 1990 год) появляется тоскливая жизненная история.
«А на следующий день, между прочим, я купил себе на эти деньги джинсовую куртку, за нее просили сто восемьдесят, но со мной был Зюзевякин, и я купил ее за девяносто, тридцать у меня осталось, Безуглов добавил мне еще, и я купил подарок дочери, мне был сорок один год, я был автором четырех романов и писал (точнее, тогда я еще думал, что допишу его в первоначальном замысле) пятый. И я радовался как ребенок тому, что <...> купил себе среднего качества джинсовую куртку и подарок дочери, почему-то я вспоминаю об этом очень часто, смотрю на небо, а потом отвожу глаза, хотя — кто мне скажет, что я был не прав?»
Этот Безуглов, в отличие от довлатовского, мне близок. Во-первых, дело происходит в девяностые, на которые проще смотреть, во-вторых, это мой отец, и в-третьих, это свидетельство изнутри одной из множества тусовок, которыми полнился город, переживающий веселое и злое падение в свободный рынок.
Каждая из этих тусовок создавала свое поле, позволявшее отстраиваться от мономифа, утверждаемого извне: не быть «городом-заводом», но быть центром рок-музыки; представиться альтернативным центром фантастического фэндома.

Николай Аввакумов. Заводской двор. Начало 1930-х гг.
Фото: ЕМИИ
Позже городу на время удалось стать и центром злого, нарочито регионального хип-хопа; жаль, что эта городская легенда не набрала звонкости, которой преисполнилась аналогичная история в Ростове. В середине нулевых группировка «Горный Щит», аттестующая себя «уральским ву-тэнг-кланом», в треке «Г.Е.Т.Т.О (Город Екатерины Трущобы Товар Оборот)» произвела локальную вариацию классического сюжета про жестокий мегаполис. «При выборе поворота не будь ни в чем уверен / по крайней мере мы уже понесли потери / в мае то же, что и в апреле / расчет только налом / догоняем небо на крыше и кашляем планом». В последнем куплете Жека «Злой» перебирает ключевые теги: «арматура/ халтура / культура / камни / не надо мне тереть, я все это видел сам», фиксируя образ горнозаводского города в переходный период.
Наконец, Екатеринбургу удалось апроприировать неумную реплику Владимира Соловьева про «город бесов» — и даже сделать ее визитной карточкой.
Конечно, решения по кристаллизации нового образа принимались отдельными голосами в каждой отдельной тусовке; мне не достанет сил предложить историографический очерк, хочется лишь наметить границы.
В завершение тезиса обращусь к словам Кира Булычева, отвечавшего на письма читателей в апреле 1988 года на страницах «Уральского следопыта»: «таланты просто так, в одночасье, не появляются. Для возникновения целого направления в литературе должны создаться не только социальные, но и организационные условия».
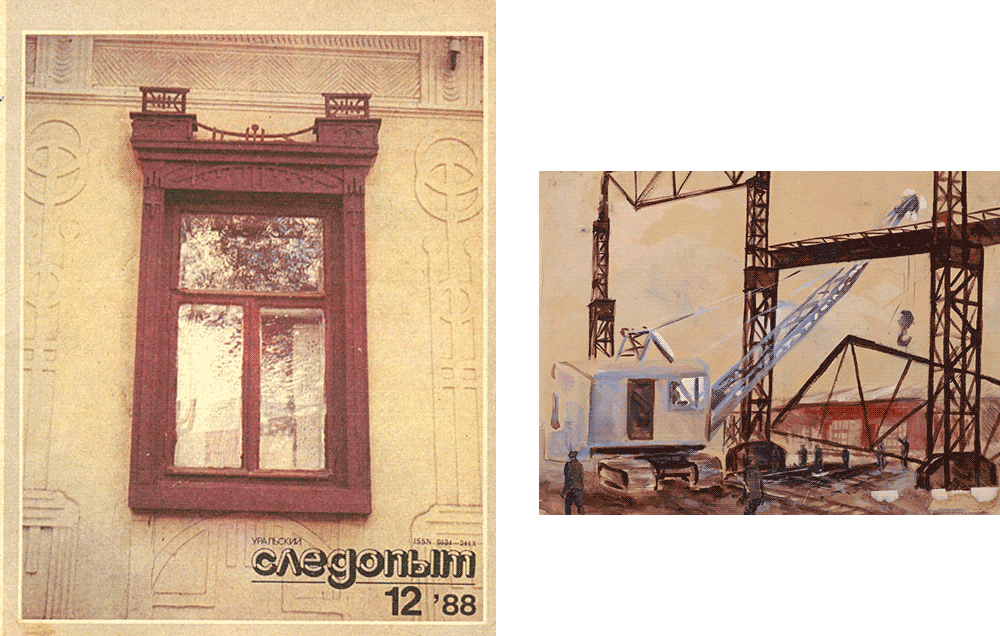 Их в Свердловске-Екатеринбурге хватало. Сети контактов — как и бывает в дружеских тусовках — расщелкивались, сплетались заново, разрывались, но, что важно, обретали фиксацию на аудиокассетах, пластинках, в журналах и книгах, на стикерах, футболках и других носителях. Они противостояли попыткам сверху очертить «горизонт планирования символического», который, по словам культуролога Леонида Салмина, «устанавливается на время сидения тех или иных властных чинов».
Их в Свердловске-Екатеринбурге хватало. Сети контактов — как и бывает в дружеских тусовках — расщелкивались, сплетались заново, разрывались, но, что важно, обретали фиксацию на аудиокассетах, пластинках, в журналах и книгах, на стикерах, футболках и других носителях. Они противостояли попыткам сверху очертить «горизонт планирования символического», который, по словам культуролога Леонида Салмина, «устанавливается на время сидения тех или иных властных чинов».
Сказанное выше не отменяет взгляд извне; например, страшный своей гладкописью текст Лидии Чуковской «Софья Петровна», действие которого происходит в конце 1930-х.
Город-завод съедает молодого «партийного орла», приехавшего в Свердловск по распределению; его первым успехам на передовом предприятии очень радуется мама, Софья Петровна, мирно щелкающая по клавишам машинки в петербургском издательстве. Одного доноса хватает, чтобы произвести чудесное превращение. «Энтузиаст производства, комсомолец Николай Липатов, разработавший метод изготовления долбяков Феллоу на Уральском машиностроительном заводе», за пару дней становится троцкистом и наймитом, а сознание Софьи Петровны переживает шоковый надлом, разрыв глубинного узора: газетам и официальным речам больше верить нельзя. Он сгнивает в тюрьме, она — в безумии и отчаянии; Уралмаш продолжает работу — вот и вариация на тему «человек для завода».
Конечно, ремарка о внутренней полифонии, выборе новых образов города теперь оборачивается против меня. В текстах авторов из Екатеринбурга-Свердловска достаточно «заводского», «уральской суровости», существующих бок о бок с чувством смерти. Шанс вернуться из-под земли дан не всем, зато каждый остро переживает истаивающее время.
В романе, к сожалению, недавно ушедшего Игоря Сахновского «Насущные нужды умерших» студент Сидельников, рассовавший по карманам обломки трепетного сердца, приезжает в «Средновск» и давится его военно-индустриальным классицизмом. «На фронтонах домов культуры напряженно громоздились рабочие, солдаты и матросы с выражением такой угрожающей правоты, что Сидельников, проходя под их каменным взглядами, чувствовал себя неправильным и виноватым».
Свердловск, до девяностого года закрытый для иностранцев, сер и угрюм; этому суверену горожане отдали право на репрезентацию, но процедура сломалась, и графическая репрезентация города спуталась, а с ней и самоощущение горожан.
Это отмечает Ольга Славникова в романе «2017»: «сами пропорции промышленного города оказались засекречены так, что последствия искажений, подобно последствиям полиомиелита, сказывались на структуре города, как реального, так и изображенного, сообщая улицам странные вывихи и заставляя неоправданно вилять, срываясь рогами с проводов, городские неуклюжие троллейбусы».
Здесь не теряются те, кого нормируют гудки проходной; остальным приходится порой проваливаться в прорехи времени, сталкиваться с другой стороной индустриальности, а именно — платой за производительность и безымянным трудом.
Сахновский пишет: «этот город, основанный чуть позже Санкт-Петербурга, поначалу грешил туповатым подражанием северной столице, как старшей сестре, даже рифмовался с ней по именам», и свидетельствует, что город перестал подделываться под Северную Пальмиру «во времена еще более жесткие, наплевал на всякое фамильное сходство». В годы войны Екатеринбург принял эвакуированные заводы, разместил производства, разросся новыми районами; и потом десятилетиями конвертировал труд в новые мартеновские печи, жилые дома, шагающие экскаваторы и военные ракеты. Социолог А. К. Томпсон замечает: «„мы” <...> преходящи, поскольку одному поколению рабочих ни за что бы не удалось справиться со всеми стадиями урбанистического и индустриального развития; <...> те же мастерские, возведенные историческими „нами”, оказываются пространством извлечения мертвого труда в настоящем». Город-завод не помнит всех, кто его строил, но иногда указывает на них.

Екатеринбург, 2014
Фото: Антон Новоселов
Студент Сидельников в «Насущных нуждах умерших», залечивая сломанный нос, петляет по больничным коридорам и неожиданно спускается в прозекторскую: «Сидельников отпрянул, с трудом перевел дыхание и снова заглянул за косяк. Мертвое тело казалось томным и теплым, словно только что из постели». Мучимый лазаретным безвременьем, он еще пару раз навещает мертвецов и тяжело переживает простую мысль — еле заметную физически границу между живым и мертвым. «И поразительней всего была одновременность наблюдаемых процессов: вот ЭТИ сидят здесь, ТЕ — лежат там. Больничный замок чинно высился над своим трупным подземельем, опираясь на него как на единственно возможный, законный фундамент». Сидельников проживает это знание, выбравшись неприкаянно бродить по Средновску.
Эту же границу между подземным и надземным мирами, которая в Екатеринбурге истончена, замечает и культуролог Леонид Салмин, обращаясь к удивительной истории о возведении солнечных часов, которая, как ни странно, существует вне романов, повестей и рассказов и, вероятно, происходила в действительности.
В 1990-е годы глава Верх-Исетского района решил возвести солнечные часы на площадке рядом с Вечным огнем у остановки «Площадь коммунаров», где коммунары, собственно, погребены.
По его просьбе архитектор сделал трехметровый мраморный обелиск с латунным флажком: некоторое время спустя флажок оторвали, и часы превратились в не вполне понятный монумент. Его близость к Вечному огню совсем спутала карты, и школьники, молодожены и прочие носители цветов стали на всякий случай приносить их и к Вечному огню, и к обелиску.
Глава района, решив исправить ситуацию ритуальным наименованием, попросил подрядчиков, возводивших часы, снабдить их пояснительной надписью. Салмин пишет: «Ребята закрывают все полиэтиленом, делают надпись „Солнечные часы”, а заодно подписывают и себя, кто изготовил: „Кооператив «Мрамор»”. Кооператив „Мрамор” — на каждом заборе висела их реклама, и весь город знал их как монополистов по надгробиям... <...> Более того. Этот глава района уходит с места главы, и кем он уходит? Он уходит главой Екатеринбургского Метростроя». Добавлю лишь, что этот кооператив (а скорее ООО) отвечал за гаргантюанские памятники аллеи криминальных авторитетов на Широкореченском кладбище, по которой нередко прогуливаются гости города.
Завершу сюжет переходом от архитектурного апокрифа к поэтической премии, которую создали поэты Борис Рыжий, Роман Тягунов, Дмитрий Рябоконь и Олег Дозморов; последний в тексте «Премия «Мрамор» пишет, что ее «придумал Роман. <...> Территория фирмы в самом центре города выглядела как репетиция небольшого, но богатого сельского кладбища. <...> Рому же этот вид навел на мысль о литературной премии в области поэзии. Премировать победителя конкурса на лучшее стихотворение о вечности предполагалось прижизненным мраморным памятником в виде раскрытой книги с его, победителя, произведением, высеченным в камне. Имя премии было дано по названию генерального спонсора — ООО „Мрамор”, памятники архитектурных форм».
Премия не состоялась, хотя учредителей стали забрасывать рукописями; спонсоры премии потребовали медиаосвещения, шутка переросла в дрязги, деньги спонсоров загадочно исчезли, а некоторое время спустя Роман Тягунов, предположительно, покончил с собой, а Борис Рыжий покончил с собой точно. Дозморов пишет об этом резко и грустно, отмечая: «заигрывания с лысой так просто не проходят, факт», и там же, но ранее — «только повзрослев, мы научаемся беречь близких и до смерти уже изводим только себя».
 В. Васильев Свердловск
В. Васильев СвердловскЕкатеринбург, утягивающий людей под землю, продолжает стоять на месте, и желающие всегда могут столкнуться с дорогими мертвецами. Годы спустя, в подборке «Позы Ромберга» поэтесса Егана Джаббарова дает четкие указания: «морг, голубой коридор, ГКБ — 40, терапия налево», и стихотворением позже ударяет: «пойдем обниматься в морг / там висят замки новобрачных / вместе не до, а после / в черных покровах Аида».
Наконец, эти разрозненные заметки о городе — о разорванном пространстве, тяжелом труде, попытках оспорить статус-кво и удержаться на границе живого — я завершаю в точке, из которой я, в отличие от Жени Люверс, могу увидеть свой Урал.
Автослесарь Петров из романа «Петровы в гриппе» поэта Алексея Сальникова бесконечно долго едет в «тройке»; троллейбус отходит от конечной станции, в паре шагов от которой находится мой дом. Но если я в этом троллейбусе обычно ехал в школу, постукивая утренне-чугунной головой в стекло, то Петров отправляется, чтобы раствориться в запутанном, слишком внимательно описанном и при этом совершенно размытом Екатеринбурге, распивая водку с опиджаченным Артюховым Игорем Дмитриевичем, которого Ольга Прохорова предлагает считать Аидом.
Петров пребывает в лихорадочном нигде, его город не так нагл, как Ёбург; не так военно-индустриально-классичен, как Свердловск; он прерывист, не совпадает с картами, болезнен и желтоват. В алкогольной буре Петров, кажется, умрет и воскреснет; он столкнется с Цербером лицом к лицу, но память, измученная высокой температурой, не удержит четкий образ в памяти. В его городе найдется место редакции журнала «Урал», фантастическим историям эпохи «Уральского следопыта», паре рок-композиций; его город дезориентирует множество читателей по всей России, и именно этот город — в наибольшей степени — совпадет с моим чувством этого места. Екатеринбурга, после которого с Хароном, видно, придется расплачиваться медными монетами, — ведь, по словам Тараса Трофимова,
«Меди в легких у нас — на пятак.
Влез, тяжелый, насмешкою
И улегся там решкою».
Автор выражает благодарность Ирине Кудрявцевой и всему коллективу ЕМИИ за работу над выставками «Гиганты Урала» и «Передовая передового», иллюстративные материалы с которых использованы в этом материале.