Мечтам невольная преданность
Верность в классической русской литературе
Говорить о верности и преданности как самодостаточной ценности сложно: например, Чичиков предан идее умножения капитала, а Мцыри верен родному краю — одно ли это и то же? Тем не менее русская литература пестрит примерами преданности всех мастей: одни писатели высоко ценили верность отечеству, другие воспевали приверженность идеалам свободы, третьи говорили о преданности возлюбленным. О них и пойдет речь в новом выпуске рубрики «Всевидящее око русской литературы».
Любовь мужика к барину
Тема преданности в русской литературе XIX века, и особенно первой его половины, тесно связана с образом слуги. По этому поводу В. А. Соллогуб в «Тарантасе», желая определить, как он сам писал, «национальную сущность жизни его родины», остроумно заметил, что «любовь мужика к барину есть любовь врожденная и почти неизъяснимая». Когда один из его героев, Василий Иванович, женился, все мужики встречали молодых с хлебом и солью, стоя на коленях:
Русские крестьяне не кричат виватов, не выходят из себя от восторга, но тихо и трогательно выражают свою преданность, и жалок тот, кто видит в них только лукавых, бессловесных рабов и не верует в их искренность.
Пассаж этот, конечно, во многом пародиен. Однако русская литература знает немало примеров идеализации образа простого русского мужика на службе у господина, восходящего к пушкинскому Савельичу из «Капитанской дочки». Слуга Гринева с самого начала показывает себя не столько холопом, столько мудрым наставником и защитником молодого барина. Под его надзором герой выучился грамоте. В течение всего романа именно Савельич разрешает мелкие неурядицы: отстаивает барское добро перед Пугачевым, которое тот презрительно называет «штанами с манжетами», подставляет грудь под удар шпаги Швабрина. Не подводит он и в критической ситуации, предлагая Пугачеву повесить себя вместо Гринева:
Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», — повторяли мне губители, может быть, и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной!» — говорил бедный дядька. — «Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили.
Известно, что В. Ф. Одоевский, прочитав «Капитанскую дочку», заметил: «Савельич чудо! Лицо самое трагическое, то есть которого больше всего жаль…». Создавая Савельича, Пушкин опирался на то, как Фонвизин изобразил своего дядьку Шумилова в стихотворении «Послание слугам моим». Тот, отвечая на вопрос о своем предназначении, говорит:
Я знаю то, что нам быть должно век слугами
И век работать нам руками и ногами;
Что должен я смотреть за всей твоей казной,
И помню только то, что власть твоя со мной.
Савельич также изображен как «любезный дядька», наставник и учитель, что доказывает его письмо к Гриневу-отцу: «Я не старый пёс, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос». Мы видим, что герой, несмотря на свое крепостное положение, исполнен чувства достоинства. Счастье для него — быть верным слугой своего барина. В нем Пушкин выразил «подлинно русский, народный характер», в котором мудрость соседствует со смирением. А жаль героя как раз потому, что его благородные поступки остаются никем незамеченными — ведь он всего лишь слуга своего господина.
 Анаталий Шишков в роли Архипа Савельича в фильме «Капитанская дочка», 1958 год
Анаталий Шишков в роли Архипа Савельича в фильме «Капитанская дочка», 1958 годПозже, гиперболизируя эту идею в «Обломове», И. А. Гончаров нарисует Захара фактически дополнением своего барина, а также символом обветшалости и запущенности Обломовки:
Захар не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.
Жизненная программа самого Обломова, как известно, сводится к тому, чтобы «ни холода, ни голода никогда не терпеть, нужды не знать, хлеба себе не зарабатывать и вообще черным делом не заниматься». Более идиллическая версия этой патриархально-крепостнической фантазии представлена в знаменитом «Сне Обломова». Именно поэтому герой так возмущен «неблагодарностью» Захара, посмевшего в сцене с хозяином их петербургской квартиры сравнить своего барина с «другими» («Я думал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можно…»). Уклад жизни Обломова диктует ему роль покровителя и благодетеля крестьян. Поэтому такую форму преданности слуги господину впору назвать «сыновней» — Захар даже не смеет сомневаться в праве барина распоряжаться его судьбой. На деле же скорее сам Обломов попадает в зависимость от старого слуги.
Тоска по родине святой
С любовью к родине в русской литературе дела обстоят едва ли не сложнее, чем с холопской верностью. В повести «Тарас Бульба» Гоголь мастерски столкнул запорожцев, верных отечеству, с верным возлюбленной Андрием, который, по мнению его отца, «продал веру и душу». Тем самым автору удалось показать битву эпического героя с романтическим: Бульба не может допустить, «чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы». Андрий отказывается от отца, товарищей и отчизны, ведомый любовью к красавице-полячке. Но казацкая этика не знает полутонов, а потому романтическая мысль, воспевающая индивидуальную волю и устремления, разбивается в прах о патриархальную удаль. Концепция «отчизна — любимая женщина» не выдерживает столкновения с рассказами о том, «как умеют биться на Русской земле и, еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру».
Классический пример непростых отношений с родиной — Мцыри, который стремится вернуться в родной край всей своей «огненной душой», но погибает, пробыв на свободе совсем немного. Покидая монастырь в бурю, как и положено романтическому герою, он задается вопросом:
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..
Разразившаяся в «ужасный час» буря становится таким образом единственной адекватной рифмой к переживаниям персонажа. Стихия окончательно обрывает его связи с другими людьми и цивилизованным христианским миром в целом. Зато она же дарует ему потерянное когда-то ощущение единения с природой. На образы родства в частности обратил внимание Ю. В. Манн в своей статье, посвященной лермонтовской поэме. Уже в первой строфе возникают, «обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры», страдающий в неволе Мцыри хочет прижать свою грудь «к груди другой, хоть незнакомой, но родной», и говорит о том, что он, «как брат, обняться с бурей был бы рад». Таким образом, бегство герой воспринимает не столько как освобождение, сколько как возвращение в родную естественную среду. В монастыре же герой был
Чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел, вздыхая, на восток…
Но грезы о родных горах так и остаются грезами. Мцыри терпит неудачу и погибает — правда, с ощущением, что родина и свобода стоят того, чтобы за них умереть.
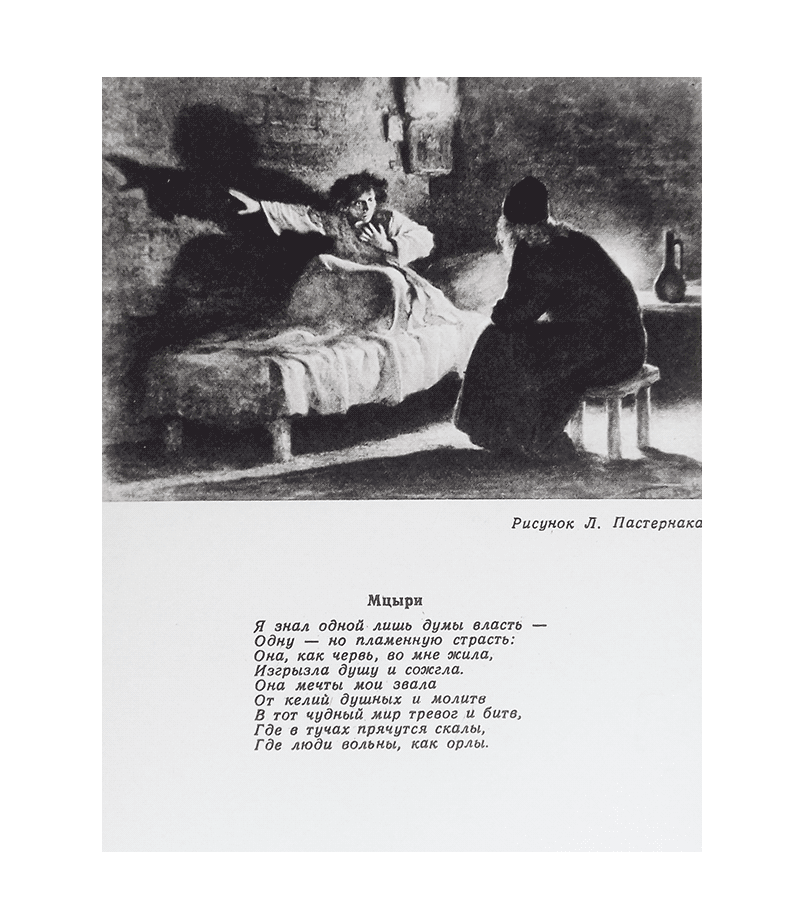 Столь романтическое прочтение проблемы преданности родине было невозможно в литературе более позднего периода — как и образ «странника, родины, друзей, всего лишенного». Уже в конце XIX века в статье «Патриотизм или мир?» Л. Н. Толстой будет говорить о том, что патриотизм есть «чувство неестественное» и, какую бы форму он ни принял, все равно приведет к войне. Граф задается вопросом, зачем «поддерживать исключительную преданность своему государству, когда эта преданность производит страшные бедствия для всех государств и народов»? Этот текст писался как ответное письмо английскому журналисту Дж. Мэнсону, который попросил Толстого высказаться по поводу венесуэльского кризиса, но сегодня может быть прочитан как универсальный антивоенный манифест, напоминающий, что «желание исключительного блага своему народу» влечет за собой непоправимые последствия.
Столь романтическое прочтение проблемы преданности родине было невозможно в литературе более позднего периода — как и образ «странника, родины, друзей, всего лишенного». Уже в конце XIX века в статье «Патриотизм или мир?» Л. Н. Толстой будет говорить о том, что патриотизм есть «чувство неестественное» и, какую бы форму он ни принял, все равно приведет к войне. Граф задается вопросом, зачем «поддерживать исключительную преданность своему государству, когда эта преданность производит страшные бедствия для всех государств и народов»? Этот текст писался как ответное письмо английскому журналисту Дж. Мэнсону, который попросил Толстого высказаться по поводу венесуэльского кризиса, но сегодня может быть прочитан как универсальный антивоенный манифест, напоминающий, что «желание исключительного блага своему народу» влечет за собой непоправимые последствия.
Спустя еще более чем полвека, в 1967 году, Е. А. Евтушенко, размышляя о проблеме преданности в знаменитом «Монологе голубого песца», выносит приговор «рожденной в неволе» советской интеллигенции. Здесь в отношениях личности и государства сквозит одна лишь обреченность:
Хотел бы я наивным быть, как предок,
но я рожден в неволе. Я не тот.
Кто меня кормит — тем я буду предан.
Кто меня гладит — тот меня убьет.
Другому отдана
Примером верности себе, своим решениям и нравственным устремлениям в делах любовных считается Татьяна Ларина. О ее преданности наиболее точно сказал Достоевский в своей речи о Пушкине. Он, как известно, был очень строг к Онегину и назвал его «нравственным эмбрионом». Беспокойный мечтатель, по мнению писателя, не способен оценить скромную прелесть такого цельного характера, как Татьяна, что, кстати, признает и сам герой:
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!
Даже когда героиня перестает быть «барышней уездной», с ней остается ее нравственная чистота и скромность, не клеящиеся с образом знатной дамы. Поэтому именно Татьяна, как считает Достоевский, высказывает в финале «правду поэмы»:
Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы. Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная героиня поэмы. Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины, и ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным.
 Что же такого говорит Татьяна? Что законы света не позволяют ей изменить мужу-генералу? Едва ли. Татьяна выходит замуж, потому что ее о том «с слезами заклинаний молила мать». Что в Москве, в доме родной тетки, что в Петербурге героиня чувствует себя чужой. Ей претят светские забавы. Уже будучи генеральской женой, она тоскует по своему «бедному жилищу». Поэтому отказ Онегину объясняется не наспех усвоенными столичными манерами, а глубинным пониманием, что человек не может «основать свое счастье на несчастье другого»:
Что же такого говорит Татьяна? Что законы света не позволяют ей изменить мужу-генералу? Едва ли. Татьяна выходит замуж, потому что ее о том «с слезами заклинаний молила мать». Что в Москве, в доме родной тетки, что в Петербурге героиня чувствует себя чужой. Ей претят светские забавы. Уже будучи генеральской женой, она тоскует по своему «бедному жилищу». Поэтому отказ Онегину объясняется не наспех усвоенными столичными манерами, а глубинным пониманием, что человек не может «основать свое счастье на несчастье другого»:
Нет; чистая русская душа решает вот как: «Пусть, пусть я одна лишусь счастия, пусть мое несчастье безмерно сильнее, чем несчастье этого старика, пусть, наконец, никто и никогда, а этот старик тоже, не узнают моей жертвы и не оценят ее, но не хочу быть счастливою, загубив другого!». Тут трагедия, она и совершается, и перейти предела нельзя, уже поздно, и вот Татьяна отсылает Онегина.
При этом Татьяна остается верна и своей любви к Онегину («Я вас люблю (к чему лукавить?)…«), но возвышает ее над этой мелодраматической ситуацией готовность пойти на жертву ради собственных убеждений.
По ее пути пойдет и Лиза Калитина из «Дворянского гнезда», одна из типичнейших тургеневских девушек, о которой сказано, что она была
Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности; она любила одного Бога восторженно, робко, нежно.
Именно через нее Тургенев раскрывает пресловутую коллизию счастья и долга. Федор Иванович Лаврецкий видит в ней обещание гармонии и благочестивой жизни, а потому торопится открыть ей свои чувства, узнав о смерти жены. Однако вскоре выяснилось, что Варвара Павловна не умерла, а Лиза стала возлюбленной человека, женатого на другой женщине. Таким образом, вместе с Лаврецким в ее жизнь вторгаются дурные чувства — «какие-то горькие, злые, ее самое пугавшие порывы». В конце концов, желая спасти героя и говоря о долге, она требует простить неверную жену, потому что «счастье на земле зависит не от нас»:
— Это всё надо забыть, — проговорила Лиза, — я рада, что вы пришли; я хотела вам написать, но этак лучше. Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иваныч, должны примириться с вашей женой.
— Лиза!
— Я вас прошу об этом; этим одним можно загладить… всё, что было. Вы подумаете — и не откажете мне.
— Лиза, ради Бога, вы требуете невозможного. Я готов сделать всё, что вы прикажете; но теперь примириться с нею!.. Я согласен на всё, я всё забыл; но не могу же я заставить свое сердце… Помилуйте, это жестоко!
— Я не требую от вас… того, что вы говорите; не живите с ней, если вы не можете; но примиритесь, — возразила Лиза и снова занесла руку на глаза. — Вспомните вашу дочку; сделайте это для меня.
Тургеневским персонажам вообще свойственно определять себя через категории долга (Лиза) или служения (Елена, Рудин). Вот и Лиза Калитина, уходя в монастырь — по сути, совершает акт самопожертвования во искупление грехов всех своих близких. Хотя об истинных ее мотивах мы можем только гадать, потому что Тургенев позволяет читателю смотреть на нее лишь глазами Лаврецкого:
Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, — увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини — и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо — и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет?
Преданность и предательство
Образ Иуды — верного ученика Христа, который превратился в предателя — давно укоренился в литературе. В книге «Иисус Неизвестный» Д. С. Мережковский говорит о нем:
Память о том, что действительно побудило Иуду предать Иисуса, заглохла уже в самих Евангелиях… Кажется, действительной причины Иудиного предательства евангелисты не знают, не помнят или не хотят вспоминать, может быть потому, что слишком страшно… Образ Иуды, каким он является в евангельских свидетельствах, — только непонятное страшилище. Но если бы мы могли заглянуть в то, что действительно было в этом предательстве, то, может быть, мы увидели бы в нем проблему зла, поставленную так, как больше нигде и никогда в человечестве.
Мережковский считал, что образ Христа исказили его ученики и толкователи — как и образ Иуды. Была актуальна проблема прочтения этих образов и для Достоевского, который и сам хотел написать книгу об Иисусе Христе — об этих планах писатель говорит в своих записках. Тридцать серебреников, за которые Иуда предал Христа, появляются в романе «Преступление и наказание» — за тридцать копеек Мармеладов предает свою дочь Соню. На романах Достоевского был воспитан Леонид Андреев, создавший, пожалуй, самый противоречивый образ Иуды в истории литературы. Известно, что писатель задумывал рассказ «Иуда Искариот» как «евангелие наизнанку», согласно точному определению Максимилиана Волошина. В начале рассказа появление Иуды не предвещает ничего хорошего. Он предстает как «рыжий и безобразный иудей» с «безобразной бугроватой головой». Андреев не жалеет красок, чтобы создать наиболее отталкивающий образ:
Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда из Кариота — человек очень дурной славы и его нужно остерегаться. Одни из учеников, бывавшие в Иудее, хорошо знали его сами, другие много слыхали о нем от людей, и не было никого, кто мог бы сказать о нем доброе слово. И если порицали его добрые, говоря, что Иуда корыстолюбив, коварен, наклонен к притворству и лжи, то и дурные, которых расспрашивали об Иуде, поносили его самыми жестокими словами… И не было сомнения для некоторых из учеников, что в желании его приблизиться к Иисусу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет. Но не послушал их советов Иисус, не коснулся его слуха их пророческий голос. С тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек его к отверженным и нелюбимым, он решительно принял Иуду и включил его в круг избранных.
 Ученики Христа брезгливо отворачиваются от него, потешаются над его внешностью «осьминога» и обвиняют во лжи. Вскоре Андреев отходит от канонической трактовки образа Иуды, и уже апостолы предстают глупцами и трусами. Иуда же спасает Христа в одном из иудейских селений, где того приняли крайне враждебно и чуть не растерзали. Чтобы уберечь учителя, герой бросился в толпу, юродствовал, кричал и лгал. В этой сцене наиболее полно проявляется двойственность его образа:
Ученики Христа брезгливо отворачиваются от него, потешаются над его внешностью «осьминога» и обвиняют во лжи. Вскоре Андреев отходит от канонической трактовки образа Иуды, и уже апостолы предстают глупцами и трусами. Иуда же спасает Христа в одном из иудейских селений, где того приняли крайне враждебно и чуть не растерзали. Чтобы уберечь учителя, герой бросился в толпу, юродствовал, кричал и лгал. В этой сцене наиболее полно проявляется двойственность его образа:
Одною рукой предавая Иисуса, другой рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы. Он не отговаривал Иисуса от последнего, опасного путешествия в Иерусалим, как делали это женщины, он даже склонялся скорее на сторону родственников Иисуса и тех его учеников, которые победу над Иерусалимом считали необходимою для полного торжества дела. Но настойчиво и упорно предупреждал он об опасности и в живых красках изображал грозную ненависть фарисеев к Иисусу, их готовность пойти на преступление и тайно или явно умертвить пророка из Галилеи. Каждый день и каждый час говорил он об этом, и не было ни одного из верующих, перед кем не стоял бы Иуда, подняв грозящий палец, и не говорил бы предостерегающе и строго:
— Нужно беречь Иисуса! Нужно беречь Иисуса! Нужно заступиться за Иисуса, когда придет на то время.
Не менее примечательна сцена, в которой Иуда является перед распятым:
…какое подлое сердце у Иуды! Он держит его рукою, а оно кричит: осанна, так громко, что вот услышат все. Он прижимает его к земле, а оно кричит: осанна, осанна!
Мотив предательства парадоксальным образом пересекается с мотивом преданности. Кроме того, не стоит забывать, что в годы, когда писатель задумал этот рассказ, предательство стало не столько нравственной, сколько политической проблемой. Поэтому произведение Андреева воспринималось современниками как крайне злободневное — «нечто по психологии, этике и практике предательства», как определил его сам автор. Ключевой чертой образа Иуды в прочтении Андреева становится его неразрешимость, что очень точно подметил И. Ф. Анненский:
И поистине страшен Иуда при первом появлении своем из небытия, из одной возможности. Эта грязная волосатая нагота, эти мокрые поцелуи и липкие объятия, эта серая груда тела, из которой в тревожных сумерках вдруг высунутся и побегут куда-то руки и ноги, эти мысли-камни в затылке и, наконец, это молчание, столь безнадежно глухое и не отзывчивое, что перед ним казалась бы правдою и светом самая ложь, сказанная человеческим языком, — все эти животности, часто не только не оскорбительные, но даже не приметные для нашего тупого или рассеянного восприятия, накопляясь в нежной душе художника, создали там муку, безобразие и неразрешимость Иуды, т. е. нашу муку, наше безобразие и нашу неразрешимость.