Магистральные маргиналии
Интервью с Александром Кравецким — филологом и литургистом
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— Тех, кто родился на рубеже 1950–1960-х называют по-разному: «первые беби-бумеры», «гагаринцы». Александр Геннадьевич, есть ли у вас понимание себя как части поколения, работает ли такой внутренний часовой механизм? На что оглядываетесь, с кем и с чем соотносите себя? Были ли повороты?
— За все поколение сказать не решусь, но совсем резкий культурный перелом, мне кажется, в моей жизни был только один — тот, который происходит сейчас, когда мир сужается и рамки становятся более жесткими. На протяжении всей моей предшествующей жизни рамки расширялись — иногда почти незаметно, иногда стремительно. Я 1962 года рождения, поэтому оттепель не застал. Но сколько я себя помню, было ощущение, что мир расширяется и воздуха прибавляется. Это происходило благодаря самиздату, дружескому общению, университетским семинарам. А в конце 1980-х рамки эти вдруг стали расширяться резко и со свистом, так что дух захватывало. Вся моя предыдущая жизнь шла под знаком обретения свободы. Сейчас эта эпоха расширения мира закончилась, а вместе с ней, как мне кажется, закончились и мы.
— Текст Всеволода Некрасова «Свобода есть свобода» давно стал мемом, как теперь говорят. А у вас какая «свобода»?
— Для меня свобода — это возможность заниматься тем, что интересно. В конце 1980-х открылась возможность заниматься практически любым, самым неожиданным, маргинальным и нетрадиционным материалом. Сейчас хотелось бы вернуться в то время, чтобы из этих наработок и юношеского хулиганства сделать некоторые академические или полуакадемические тексты, потому что такой способ жизни закончился и для нас теперь время подытоживать и систематизировать. Чтобы как-то сохранить то, что успели накопать за жизнь.
— Такое накопление внутреннего ресурса здоровой дерзости ведь не происходило само собой в вакууме. Была среда, книги?
— В университете я участвовал в двух семинарах, которые в значительной степени пересекались. Это был, с одной стороны, семинар Никиты Ильича Толстого, а с другой — Бориса Андреевича Успенского и Виктора Марковича Живова. Жизнь вокруг этих семинаров была очень интересной. Как я сейчас понимаю, это было очень хорошее время для учебы на филфаке: разрешено и доступно было уже достаточно многое. Наши учителя, естественно, были невыездными и всегда были рядом. К тому же любой иностранец, оказавшийся в России, приезжал выступать, и поэтому у нас побывали достаточно неожиданные люди, а мир выглядел удивительно широким. Ну и плюс библиотеки. Помню свое потрясение, когда в каталоге факультетской библиотеки (не общеуниверситетской, а факультетской) я обнаружил книги Бердяева, которые первокурсник мог спокойно получить в читальный зал. Я не говорю уже о библиотеках наших учителей. Из книг вырастал мир, в котором, казалось, не было ни революции, ни господствующей идеологии, ни железного занавеса, ни магистрального пути, с которого нельзя сходить.
На отсутствии магистрального пути нужно остановиться несколько подробнее. Стандартный университетский курс истории русского языка и письменных текстов ограничивался сравнительно узким кругом источников. При этом основное внимание уделялось первоклассным произведениям, а массовая литература, то, что читали или слушали люди малообразованные, оказывалось за кадром. Однако письменные языки эпохи — это не только условные Пушкин с Державиным, но и прибаутки балаганных зазывал, богослужебная поэзия, назидательные народные рассказы, малопристойные лубочные картинки и многое многое другое.
— Какие у вас тогда были открытия?
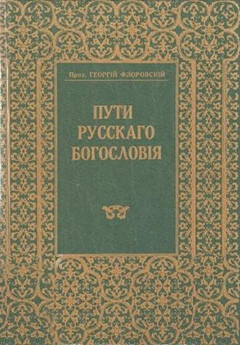 — Для меня, конечно же, человеческим открытием стали прочитанные в студенчестве еще в парижском издании «Пути русского богословия» Георгия Флоровского. В его изложении разрозненные тексты и сюжеты превратились в стройную историю интеллектуальных поисков. С Флоровским, как и с любым ярким и парадоксальным человеком, можно (и нужно) сколько угодно не соглашаться, и ругать его есть за что. Но для меня эта его книга стала опытом целостного восприятия истории мысли. И это было потрясением. Когда спустя какое-то время из предисловия Никиты Ильича Толстого к нашему учебнику церковнославянского языка я узнал, что Флоровский вел у него в гимназии Закон Божий, ощущение ученичества (и по отношению к Флоровскому, и по отношению к Толстому) стало еще более острым.
— Для меня, конечно же, человеческим открытием стали прочитанные в студенчестве еще в парижском издании «Пути русского богословия» Георгия Флоровского. В его изложении разрозненные тексты и сюжеты превратились в стройную историю интеллектуальных поисков. С Флоровским, как и с любым ярким и парадоксальным человеком, можно (и нужно) сколько угодно не соглашаться, и ругать его есть за что. Но для меня эта его книга стала опытом целостного восприятия истории мысли. И это было потрясением. Когда спустя какое-то время из предисловия Никиты Ильича Толстого к нашему учебнику церковнославянского языка я узнал, что Флоровский вел у него в гимназии Закон Божий, ощущение ученичества (и по отношению к Флоровскому, и по отношению к Толстому) стало еще более острым.
Забегая вперед, назову еще одного человека, с которым я, как и с Флоровским, никогда не встречался, но который оказал огромное влияние на мою профессиональную деятельность. Это Борис Иванович Сове, профессор богословия, библеист и литургист, специалист по истории византийского богослужения и церковной гимнографии. Он родился в Выборге, а в 1920 году эмигрировал в Париж, где учился в Свято-Сергиевском богословском институте, а затем в Оксфорде. При жизни он опубликовал десяток небольших статей, а свой основной труд — историю литургической науки и богослужения в России — писал в стол. Где-то в 1970-е годы чемоданчик с его рукописями был передан в СССР, и часть из этих материалов была опубликована в «Богословских трудах». В частности, статья про церковную книжность в XIX–XX веках. Эта статья оказалась совершенно революционной, поскольку она рушила миф о том, что история церковнославянского языка и книжности к началу XVIII века прекращается. Раньше казалось, что если до Петра I церковнославянский был литературным языком Древней Руси, то в XVIII веке с ним ничего интересного уже не происходит, за исключением разве что споров «шишковистов» с «карамзинистами» о месте славянизмов в новом литературном языке. Ну а после Пушкина вся движуха связана исключительно с новым русским языком, а церковнославянский в неизменном виде используется во время богослужения.
Сове показал, что это не так. Не имея возможности работать в архивах, читая лишь церковную периодику и мемуары, он обнаружил, что вокруг церковнославянской книжности не затихали дискуссии, писались новые богослужебные тексты (службы, молитвы, акафисты), работали комиссии, занимавшиеся исправлением богослужебных книг. При этом вся эта активность никогда не становилась предметом общественных дискуссий и практически не упоминалась в печати. Сове умудрился на основе случайных оговорок мемуаристов и авторов статей в церковных журналах практически угадать основные события в истории церковнославянской книжности XIX — начала XX веков. В своей профессиональной деятельности я как раз пытаюсь, опираясь на документы и первоисточники, описать сюжеты, о которых догадывался Сове. Поэтому считаю Бориса Ивановича в некотором роде учителем, потому что он открыл целый мир, о котором я бы никогда не подумал, что буду подобным заниматься.
— Можно ли считать, что ваши «встречи» с Георгием Флоровским и Борисом Сове стали своего рода импульсом для изучения церковнославянской письменности, истории церкви?
— Поступая на филфак, а до этого проучившись полтора года в МИСИС, я совершенно не подозревал, что это такое. Как и положено гуманитарному мальчику, я считал себя будущим великим писателем. А уж что буду заниматься церковнославянским (старославянский на первом курсе я сдал далеко не с первого раза), мне и голову прийти не могло.
Получилось все совершенно случайно. В 1989 году, учась в аспирантуре, мы с супругой (Александрой Андреевной Плетневой) открыли общедоступные курсы церковнославянского языка. Сначала наши курсы действовали при райкоме комсомола (где же еще в позднем СССР изучать язык богослужения), а потом Вяч. Вс. Иванов пригласил нас преподавать в Библиотеке иностранной литературы. Собственно, это был такой просветительский проект молодых неофитов: у нас здесь церковное возрождение началось, и сейчас мы научим благодарное человечество всему, что сами не так давно узнали. При этом мы были уверены, что никаких научных проблем за всем этим не стоит, что наше незнание объясняется лишь нашим невежеством, что где-то в духовных академиях есть настоящие специалисты и хорошие учебники, а мы лишь популяризаторы, которые восстанавливают то, что было забыто за годы советской власти. И лишь некоторое время спустя мы поняли, что в библиотеках духовных академий никаких откровений, связанных с церковнославянским языком, найти нельзя, что там, конечно, есть учебные грамматики, а научных описаний нет, что академических грамматик и словарей того варианта языка, на котором сейчас совершается богослужение, в природе не существует. Точно так же почти ничего не известно про историю конкретных церковных служб. В XIX веке этой проблематикой не очень любили заниматься, потому что после раскола, произошедшего при патриархе Никоне, церковные власти старались минимизировать выходящую в мир информацию о том, что происходит с богослужебными книгами.
Мы преподавали два года и прекратили, потому начали появляться учебные заведения, в программу которых входил церковнославянский язык (то, что потом стало Свято-Тихоновским университетом, Университетом ап. Иоанна Богослова, Греко-латинским кабинетом Ю. А. Шичалина). Время той самодеятельности, которой мы занимались, уходило. Но за эти два года мы поняли, что существует огромная книжная традиция, про которую мы не знаем практически ничего. И стало интересно во всем этом разобраться.
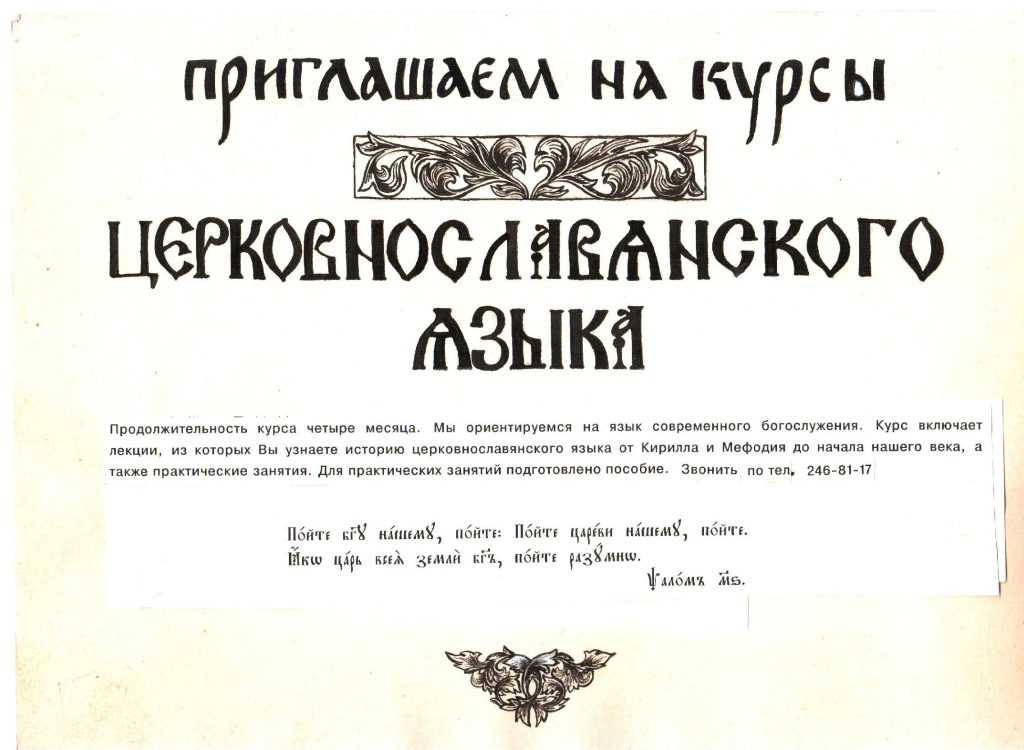
— А как в преподавании, в ваших научных занятиях, комментировании источников «прорастали» популяризаторство и публицистика? Как это сочеталось, окормляло друг друга?
— В 1990-е исследования, связанные с церковной культурой, оказались очень востребованными. Неожиданно журнал «Советское славяноведение» (в 1992-м слово «советское» из названия выпало) решил печатать уроки церковнославянского языка. Никита Ильич Толстой предложил вести эту рубрику мне и Александре Андреевне Плетневой. Рубрика «Материалы к учебнику церковнославянского языка» принадлежала нам целиком. Мы были не только авторами, но и наборщиками, и верстальщиками. Дело в том, что тогда еще не было компьютерных церковнославянских шрифтов. А нам каким-то чудом оказался доступен ни с чем не совместимый компьютер Atari, для которого существовал и церковнославянский шрифт, и греческий, и даже глаголический. Верстать я не умел, но как-то криво-косо умудрялся доводить материалы рубрики до чудовищно некрасивого, но все-таки оригинал-макета.
Довольно быстро от идеи печатать материалы к популярному учебнику мы отказались, поскольку в то же время издательство «Просвещение» заказало нам такой учебник. Дублировать в журнале уроки грамматики было бессмысленно. В этой рубрике напечатан первый или, скорее, нулевой вариант церковнославянско-русских паронимов, «ложных друзей переводчика», составленный Ольгой Седаковой. Там же печатался мой словарь устойчивых метафор, встречающихся в богослужебных текстах. Появились и публикации, основанные на архивных материалах, — по истории исправления богослужебных книг в XX веке, по материалам Поместного Собора 1917–1918 годов, связанных с богослужебным языком. Таким образом, вместе с моим постоянным соавтором и супругой Александрой Плетневой мы дошли до архивов.
— Зачем вам нужны были архивы? Что искали?
— Первый поход был абсолютно по частному вопросу. У Бориса Ивановича Сове было упоминание о том, что Собор 1917–1918 годов готовил проект, разрешающий богослужение на русском языке. Хотелось найти эти документы. При этом местонахождение архивов Собора было для меня загадкой. Ходили слухи, что он был вывезен в США и хранится в Джорданвилле. Я туда написал и ответа не получил. Но оказалось, что все намного проще и эти материалы хранятся в ЦГАОР — Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ныне ГАРФ), но в спецхране. И как раз к моменту, когда я этим заинтересовался, материалы Собора перевели на открытое хранение. И я оказался одним из первых читателей этих рассекреченных материалов. Это было увлекательнейшее чтение. На дверях архивов нужно вешать объявление: «Осторожно! Вызывает привыкание». Однажды придя, уйти оттуда довольно сложно.
— Связано ли это «заражение» архивом с тематикой?
— Церковная история XIX–XX веков тогда была совершенно не изучена, а к материалам синодальных типографий, отражавших следы редактирования богослужебных текстов, практически никто не обращался. Историки языка предпочитали изучать древности, было непонятно, чем может быть интересен церковнославянский язык Нового и Новейшего времени. Мне в голову не могло прийти, что церковнославянские штудии, которые я рассматривал скорее как хобби, могут стать предметом моих институтских занятий. Но благодаря поддержке Никиты Ильича Толстого и тогдашнего директора нашего института Александра Михайловича Молдована эта работа стала моей плановой темой. Это казалось потрясающим подарком: занимайся чем хочешь, сиди копай, что, конечно же, было счастьем.
 А. Г. Кравецкий. Фото: Пресс-служба МДА
А. Г. Кравецкий. Фото: Пресс-служба МДА
— Сбывшаяся мечта? Воплощенная идиллия? А как вы оказались в «Коммерсанте»?
— В институте было прекрасно, но вот денег там как-то не платили. А кушать хотелось. Существенная часть сотрудников «Коммерсанта» были моими однокурсниками. Когда меня брали на работу, я честно предупредил, что писать не умею и не буду. Это было чистой правдой, потому что к тому времени я разучился вразумительно писать. Чтение документов синодальной канцелярии — плохое пособие по стилистике.
Славянизированный синтаксис церковной бюрократии XIX века, помноженный на птичий структуралистский язык, порождал совершенно нечитаемые тексты. В «Коммерсанте» я довольно длительное время не писал, а занимался библиотечно-архивным сопровождением материалов, которые писали другие люди. Но в какой-то момент я все-таки оскоромился. Первые годы писал под псевдонимом и страшно стеснялся своих статей. Для меня тогдашнего идеалом были тексты на птичьем языке с кучей примечаний, сносок и оговорок, корректные, но совершенно неудобочитаемые. «Коммерсант» был прекрасной школой. Там учили структурировать материал. Любой сложный текст должен быть четко выстроен, не иметь отступлений и побочных линий. Тогда мне казалось, что так нельзя писать о сложных вещах, что при таком изложении все становится плоским и одномерным. Но сейчас я так уже не считаю. Легкость изложения и понятность необходима не только журналистским текстам, но и научным. Со временем я понял, что коммерсантовская стилистика прекрасно подходит для научно-популярных жанров.
Много позже, когда я уже не был штатным сотрудником «Коммерсанта», а выступал в качестве свободного автора, я стал больше писать на темы, которыми занимался профессионально. В результате появилось несколько десятков статей о наших взаимоотношениях с прошлым. В какой-то момент Ирина Борисовна Левонтина взяла меня за шкирку и сказала: «Давай, собирай книжку». Я что мог собрал. И после некоторых приключений появилась книга «В поисках актуального прошлого». Если буду жив, мне хотелось бы в таком же легком жанре написать историю церковнославянской книжности и вообще альтернативных письменных языков России.
— Легкий жанр, как известно, один из самых трудных. Аркадий Аверченко, один из авторов «Всеобщей истории, обработанной „Сатириконом“», говорил: главное — для начала все упорядочить. Помогает ли вам для создания легких исторических обобщений систематизация? На какой стадии проект создания словаря церковнославянского языка?
— Словарь — это в некотором роде стихийное бедствие. Нам с Александрой Андреевной Плетневой с разных трибун приходилось жаловаться на то, что язык, на котором сейчас совершается богослужение, не имеет ни академической грамматики, ни словаря. И в ответ на это, конечно же, звучали обращенные к нам призывы все это написать. Мы надеялись, что пронесет, что чаша сия нас минет. Ведь словарь — это трудоемкое развлечение на десятилетия. Периодически возникали издатели, которые пытались заказать нам словарь. До поры до времени мы отказывались, потому что главная проблема заключается в том, чтобы составить словарь, а не в том, чтобы его издать. Но в какой-то момент мы все-таки дрогнули. Собралась команда, члены которой работают в разных местах, в том числе и в Институте русского языка. В начале работы нам очень повезло, потому что к нам пришли два молодых человека, Андрей Хитров и Иван Добровольский, которые придумали и реализовали электронную лексикографическую систему, существенно упростившую наш труд. Благодаря этому инструменту работа авторов словарных статей выглядит как заполнение электронной таблицы. Система задает логику и структуру описания. Для нас это оказалось спасением, поскольку материал, который мы описываем, достаточно аморфный. Постоянно возникает желание писать огромные лирические отступления, интересные, но разрушающие структуру словаря. А здесь нам предложили жесткую, казарменную рамку. Шаг вправо, шаг влево — не то что расстрел, идти некуда. В таблице нет строки, куда вы бы могли поместить избыточную информацию. Такая вот аскетическая практика от лексикографии.
Желание авторов словаря писать пространные экскурсы связано с тем, что наш словарь — это словарь текстов, которые звучат за богослужением, то есть словарь поэтического языка, и поэтому мы описываем традиционную метафорику и фразеологию. Например, «несекомая гора» или «камень нерукосечный» будут сопровождаться кратким комментарием об истоках этих выражений. А восходят они к ветхозаветному рассказу о толковании пророком Даниилом сна Навуходоносора:
«Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю».
В христианском богословии этот фрагмент стал пониматься как пророческое указание на Боговоплощение. В регулярно встречающемся наименовании «гора несекомая» под горой понимается Богородица, под оторвавшимся от горы камнем — Иисус Христос. То есть это пророчество о Христе, явление которого разрушило языческий мир. Так и получается целый куст фразеологии.
Работа над словарем — как путешествие хоббитов, неизвестно, доживем ли мы до завершения проекта и докуда в конце концов донесем кольцо. Но до ближайшей крепости — пятый том, буква «И» — должны в конце этого года добраться. Ну а что будет дальше — посмотрим.
— Я читала вашу книгу не только как собрание пестрых, занимательных, просветительских глав, рожденных на стыке журналистики и науки, но и как личный дневник. Недаром вы говорите, что в «Коммерсанте» и в других СМИ писали о том, что интересно вам. Может быть, неправильно, но в «Поисках актуального прошлого» я расслышала прустовское «В поисках утраченного времени»?
 — В самом деле, получилось не исследование, не монография, а сборник статей, ну, слегка переработанных. Когда я эту книгу скомпоновал, то с большим удивлением понял, что она объединена единым сюжетом. Очерки, из которых она состоит, показывают, как из расхожих мифов, документальных свидетельств и идеологических схем формируются наши представления о прошлом. Материал, на котором это демонстрируется, достаточно разнообразен. Здесь и социальная стратификация дореволюционного российского общества, и освоение пространств — как реальных, так и мифологических, и история книжной культуры — от создания письменности до книгопечатания и орфографических реформ; здесь и вечный поиск тайных и могущественных врагов, которыми были озабочены конспирологи всех времен; здесь и практики, связанные с жизнью тела — от рождения до погребения. Весь этот материал, относящийся к разным эпохам и разным предметным областям — от истории кулинарных книг до истории мифов о всемирном заговоре — призван продемонстрировать, «из какого сора», из каких случайных идей, цитат и казусов сформировались наш быт и общественные институты, которые мы привыкли считать покоящимися на разумных и вроде бы рациональных основаниях. Эту определяющую наше восприятие прошлого разноголосицу мне и хотелось описать.
— В самом деле, получилось не исследование, не монография, а сборник статей, ну, слегка переработанных. Когда я эту книгу скомпоновал, то с большим удивлением понял, что она объединена единым сюжетом. Очерки, из которых она состоит, показывают, как из расхожих мифов, документальных свидетельств и идеологических схем формируются наши представления о прошлом. Материал, на котором это демонстрируется, достаточно разнообразен. Здесь и социальная стратификация дореволюционного российского общества, и освоение пространств — как реальных, так и мифологических, и история книжной культуры — от создания письменности до книгопечатания и орфографических реформ; здесь и вечный поиск тайных и могущественных врагов, которыми были озабочены конспирологи всех времен; здесь и практики, связанные с жизнью тела — от рождения до погребения. Весь этот материал, относящийся к разным эпохам и разным предметным областям — от истории кулинарных книг до истории мифов о всемирном заговоре — призван продемонстрировать, «из какого сора», из каких случайных идей, цитат и казусов сформировались наш быт и общественные институты, которые мы привыкли считать покоящимися на разумных и вроде бы рациональных основаниях. Эту определяющую наше восприятие прошлого разноголосицу мне и хотелось описать.
Наверное, я отношусь к людям, которым очень хотелось обрести в прошлом золотой век, а поскольку из этого никогда ничего не получается, то возникает желание объяснить, в первую очередь себе, а почему не получается? В какой степени образ прошлого, который есть у нас в головах, является просто переносом в прошлое вполне современных интеллектуальных конструкций? В какой степени наши представления формирует культура? Сейчас, например, очень сложно представить себе Александра Невского вне фильма Эйзенштейна. Возможно, человек никогда не смотрел «Александра Невского», но образы этого фильма все равно присутствуют в культуре и определяют наше восприятие. Или штурм Зимнего, которого не было, но все равно в культуре и исторической памяти он есть, просто потому что в свое время появилась талантливая выдумка. Так у нас получаются две непересекающиеся сферы. С одной стороны, это сфера исторических исследований, где при помощи сложных и для широкого читателя достаточно скучных операций выясняют, как же оно было на самом деле. А с другой стороны — находятся наши представления, сформированные литературой, кинематографом и экспертами из социальных сетей. Любая идеология, да и любое популяризаторство строит те или иные мифы, но насколько они корректны — вопрос. Ну а мне как человеку, чуть-чуть пощупавшему, как это знание устроено на самом деле, хочется демифологизировать хотя бы собственные представления о прошлом. Все мы живем набором мемов про историческое прошлое, про исторический опыт, про «история учит». Чему этот опыт учит — достаточно большой вопрос. Опыт показывает, что грабли для того и существуют, чтобы наступать на них бесконечное число раз. Короче говоря, эта книга — просто попытка человека, который глобально сам ничего не понимает, как-то прожить в пространстве между мифологией и методами научного познания, не сойдя при этом с ума.
— И тут возникли «Маргиналии». Тоже своего рода миф, неизменно собирающий многих участников. Что это: лекарство от безумия или коллективный смотр множественных мифов, их анализ, обсуждение? Где в вашем «путешествии хоббитов» место конференции «Маргиналии» — долгоиграющему проекту со своими корнями, прошлым и будущим?
— Возникло это абсолютно случайно как хулиганство дружеской компании, которая вместе плавает на байдарках. Лет двадцать назад мы после какого-то похода оказались на Кий-острове. Это такое замечательное место в Белом море: в отлив он остров, в прилив архипелаг, с одной стороны вода более пресная и более теплая, потому что Онега впадает, с другой более холодная и соленая — морская. Эти места связаны с патриархом Никоном, который дважды спасался здесь от шторма и дал обет создать на острове монастырь. И построил монастырь такой в духе новгородской архитектуры. Сейчас в его помещениях дом отдыха. И вот, оказавшись там, мы подумали: «О, какое место! Давайте конференцию здесь проведем». Пошли в администрацию, о чем-то там договорились, придумали под это название «Маргиналии».
Про границу и край мира мы много говорили перед тем, как оказались на Кий-острове. В начале похода водитель, который вез нас и наши лодки по идущей среди болот дороге, вдруг сказал: «Все, здесь Россия кончается». Почему, спросили мы его. Он объяснил: потому что дальше названия финские. То есть мы вот так незаметно пересекли мифологический край света, за которым уже можно встретить антиподов и людей с песьими головами. Так и была придумана конференция про маргинальные тексты, край света и все, что расположено неподалеку от этого края. И хотя в итоге первые «Маргиналии» прошли не на Кий-острове, а в Юрьеве-Польском, идея оказалась удачной. Клич, что можно поехать в интересное, но не очень доступное место, где будут обсуждаться какие-то экзотические пограничные сюжеты, всегда вызывает отклик. А пограничные сюжеты у большинства гуманитариев имеются в избытке. Вот и получилась такая странная конференция, где рядом оказываются люди, которые в обычной жизни не слышат друг друга, потому что всегда сидят по разным секциям и понятия не имеют, чем занимаются другие. Ну а мы пытаемся разрушить границы, разделяющие узких специалистов. В идеале, конечно же, эта конференция не должна иметь секций. Но увы, в последние годы народу стало много и секции приходится делать. Правда, мы стараемся распределять людей так, чтобы близкие коллеги не оказались снова вместе. То есть секции формируются так, чтобы насильно заставить людей послушать друг друга.
Поскольку изначально это создавалось вне институций, то ограничений за исключением качества здесь нет. И воздух свободы оказался востребован. Когда человек за свои деньги едет неизвестно куда, живет в непонятно насколько комфортных условиях, а на выходе у него всего лишь галочка в отчете о конференции, он десять раз подумает: а ехать мне туда или найти место поближе или выступить удаленно? Зато тем, кто решает ехать, это действительно интересно. Этот воздух свободы от каких бы то ни было институций оказался достоинством. Организаторами сейчас выступают Институт русского языка и Институт философии. До событий последнего времени во всем этом участвовала какая-то зарубежная образовательная структура. А в качестве принимающей стороны выступает местный вуз или музей. Такие научные выезды — прекрасный способ борьбы с нашим московским снобизмом. Так что «Маргиналии» — это коллективный выезд за пределы Садового кольца для того, чтобы поговорить на интересные темы.
Елена Пенская, руководитель научной группы. При участии Александра Михайловского. Центр междисциплинарных исследований МФТИ