Любовь в заведомо взорванном лифте
О «Кошмарах Бейрута» — романе про ад войны глазами женщины
13 апреля 1975 в Ливане началась кровопролитная гражданская война, продлившаяся без малого пятнадцать лет и в конце концов вылившаяся в международный конфликт с участием Израиля, Сирии и Ирака (и косвенно СССР и США). С самого начала в ней участвовали множество политических партий и группировок, к октябрю 1975-го образовавших два крайне нестабильных лагеря — условных левых мусульман и условных правых христиан. К первому относились многочисленные палестинские организации, оказавшиеся в Ливане после событий «Черного сентября», ливанские партии левого толка, воинские формирования мусульманских общин Ливана и другие мусульманские общественные организации (в том числе мусульманские фундаменталисты, из которых позже образуется «Хезболла»). Во второй лагерь, получивший название Ливанских сил, вошли правые христиане-марониты во главе с Пьером Жмайелем, основателем партии «Катаиб», созданной по образцу испанской фаланги (Жмайель никогда не скрывал своего восхищения Франко и Гитлером), Национал-либеральная партия Ливана и другие ливанские христиане-националисты (хотя сторону Ливанских сил порой занимали и ливанские шииты с суннитами, выступавшие против фундаменталистов и левых по другую сторону баррикад).
Когда стороны конфликта были более-менее определены, война вылилась в активную фазу, известную как Битва отелей («Маракат аль-Фанадик»), в рамках которой противники в течение нескольких месяцев ожесточенно сражались за деловой центр Бейрута — фешенебельный квартал, где располагалась большая часть отелей, офисов, модных кафе и магазинов города, к тому времени стараниями западных журналистов снискавшего славу «ближневосточного Парижа», то есть культурной и экономической столицы региона, каковой, вне всяких сомнений, Бейрут и был до начала конфликта.
В результате вокруг отеля «Холидей Инн», в самом эпицентре боев, образовалась «мертвая зона», не занятая ни одной из сторон. Ее заложниками стали несколько сотен гражданских, живущих в соседних с отелем домах. Из-за снайперов на крышах отелей и интенсивных уличных перестрелок, прерываемых массированным артиллерийским огнем, запертые в квартирах люди оказались полностью отрезанными от внешнего мира с ограниченными запасами воды и пищи. В их числе была известная сирийская писательница и журналистка Гада ас-Самман, посвятившая этим событиям книгу «Кошмары Бейрута», которая в 1987 году вышла на русском языке в издательстве «Радуга». И хотя Гада ас-Самман по общему мнению является одним из самых заметных арабских авторов второй половины XX века (например, ее творчеству посвящена значительная часть вышедшей в 2019 году книги Omnicide: Mania, Fatality, and the Future-in-Delirium американского философа Джейсона Мохагега, а в 2013 году на русском вышла монография Натальи Шуйской «Поэтесса рассказа»), для русскоязычной публики она остается по-прежнему не прочитанной. Попробуем исправить это досадное недоразумение.
Гада ас-Самман родилась в 1942 году в интеллигентной сирийской семье: ее мать, Сапьма Рувейха, была писательницей и преподавала французский в средней школе *В биографической части нашей статьи мы во многом будем опираться на упомянутую монографию Натальи Шуйской «Поэтесса рассказа», за которую выражаем ей искреннею благодарность., отец, Ахмед ас-Самман, был деканом факультета права Дамасского университета и членом сирийского правительства. Мать Гады умерла, когда та была еще ребенком, поэтому отец воспитывал девочку в одиночку. Начав с социальных низов, Ахмед ас-Самман сумел занять высокое общественное положение (впоследствии став министром образования Сирийской Арабской Республики), но до конца жизни сохранял тягу к знаниям и трудолюбие, которые с раннего возраста старался привить дочери, за что Гада всегда оставалась ему благодарна. Но не менее важной была и роль бабушки:
«...в отце всегда жил прежний трудолюбивый юноша, ненавидевший те моральные качества, которые присущи настоящей буржуазии. Он постоянно брал меня с собой из нашего полукомфортабельного дома на площади ан-Наджма в дамасский квартал Шагур Самадиййа: мы шли с ним к минарету, в котором он в юности служил муэдзином, чтобы заработать средства к существованию и на свою учебу. Его мать, портниха, неграмотная женщина (моя бабушка, вырастившая меня), многие годы трудилась, чтобы дать образование своим детям-сиротам и чтобы заработать для них средства, пока они в Париже писали свои диссертации» (Наталья Шуйская, «Поэтесса рассказа»).
С ранней юности ас-Самман обнаруживает страсть к чтению (у отца была богатая библиотека арабской и западной литературы) и способности к иностранным языкам: мать учит ее французскому, а после ее смерти Гада изучает английский. Что в итоге сыграло решающую роль в выборе жизненного пути: закончив среднюю школу, она поступает на отделение английской литературы в Дамасский университет (а не на медицинский факультет, как хотел ее отец, в чем проявлялась неслыханная для традиционного общества своевольность девушки — в дальнейшем конфликт между арабской женщиной и обществом, в которой ей приходится жить, станет одной из главных тем ее творчества).
Во время учебы в Дамасском университете ас-Самман дебютирует в печати в качестве поэта и публициста, а уже в 1962 году в Бейруте выходит ее первая книга — сборник рассказов «Твои глаза — моя судьба», благожелательно встреченный читателями, а также сирийской и ливанской критикой. Закончив Дамасский университет в 1963 году, девушка поступает в Американский университет Бейрута, где пишет диссертацию о театре абсурда. Как отмечает Наталья Шуйская, такой выбор был не случаен, поскольку общественно-политическая обстановка на Ближнем Востоке 1960-х во многом была созвучна катастрофической атмосфере послевоенной Европы, и такие направления западной литературы, как театр абсурда, сюрреализм и экзистенциализм, для ас-Самман были не столько модными интеллектуальными течениями, сколько позволяли задавать острые эстетико-политические вопросы о состоянии арабского общества той поры и искать на них ответы:
«Общественно-политическая действительность Сирии, как и других арабских стран, в этот период была драматичной: 1956 год — тройственная агрессия против Египта, 1958 год — оказавшийся неудачным опыт объединения Египта и Сирии в одно государство — ОАР, приведший к краху надежд, иллюзий, к разочарованию. Но важнейшие испытания были впереди: 1961 год — выход Сирии из состава ОАР, 1961–1963 гг. — четыре военных переворота и, главное событие, — поражение арабов в июне 1967 года, в результате которого Израиль оккупировал наряду с территориями Египта и Иордании обширные районы Сирии. Эта трагедия, национальное унижение оказали сильнейшее влияние на сознание и литературную деятельность интеллигенции, сравнимое с глубоким психологическим и идеологическим кризисом.
<...>
Подобно тому как на Западе, в первую очередь во Франции, в кризисные послевоенные годы особенное развитие получил экзистенциализм, так и в Сирии, Ливане и Египте именно это направление с его проповедью фатального одиночества человека во враждебном ему окружающем мире нашло благодатную почву в среде молодого поколения литераторов» (Наталья Шуйская, «Поэтесса рассказа»).
При этом стоит отметить, что вопрос был не только в выражении политической тревоги и экзистенциального одиночества. Для ас-Самман, с детства погруженной в чтение французской и английской литературы, крайне важным было «наведение мостов» между арабской и западной культурами. Именно таким мостом для нее становится литература модернизма, неприемлемая для арабских литераторов старшего поколения — с одной стороны (в основном работающих в реалистической манере, ориентированной на авторов вроде Чехова и Мопассана, и весьма скептически воспринимающих «пораженческие» и «бессмысленные» тенденций актуальной западной литературы), а с другой — позволяющая преодолеть ориенталистские предрассудки о неких специфически самобытных Востоке и Западе, которым, как считалось, никогда не суждено найти общий язык. Гада ас-Самман была радикально не согласна с подобной точкой зрения и особенно красноречиво говорит об этом в беседе с палестинским прозаиком и политическим активистом Гассаном Канафани, исходившим из сходных эстетических посылок (для него, в частности, был важен Фолкнер):
«Самая глупая сентенция, которую я слышала, — такое хвастовство: „Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и они не встретятся“. Эта логика верна в отношении мешка лука и мешка картошки, но не в отношении людей, культурного и идейного наследия человечества».
Таким образом, осветив в своей диссертации творчество Сэмюэля Беккета, Жана Жене, Альбера Камю, Жана-Поля Сартра, Эжена Ионеско и других европейских авторов, писательница продолжила развивать идеи тщетности, ущербности и глубокой бессмысленности человеческого существования в мире без божества и метафизического основания и в своем собственном творчестве:
«Гада ас-Самман признает созвучность театра абсурда духу времени, эпохе, исторгшей из себя этот феномен для человека, „уставшего от поиска порядка, Бога и языка“, человека „несчастного и растерзанного“. Именно ему этот театр предназначает „свое полное уничтожение логики, взрыв отчужденности, оставляющей личность в одиночестве, обличение фальши общественных отношений, относительности некоторых религиозных и марксистских теорий“» (Наталья Шуйская «Поэтесса рассказа»).
А вот слова самой ас-Самман:
«С самого начала своего пути я ощутила потребность найти форму сосуществования между поэтом — романистом — новеллистом, то есть художником в комплексе, с тем, чтобы выразить время, в которое нам довелось жить, — сложное, чрезвычайно трудное, потерявшее свои традиционные постулаты или большую их часть...»
 Другой важной для творчества писательницы темой становится положение арабской женщины, которой с самого ее рождения традиционное арабское общество навязывало собственные ценности и предрассудки, не позволяя распоряжаться самой собой и чувствовать то, что она на самом деле чувствует. Иными словами, традиционные ценности для арабской женщины 1960-х чаще служили препятствием на пути к познанию стремительно меняющегося мира и самой себя, чем помогали в этом мире разобраться. Ответом ас-Самман на подобное давление становится предельно субъективная манера повествования, с помощью которой она училась — и учила других арабских женщин, своих читательниц — говорить о своих любви и горе, радости и печали, одиночестве и отчаянии и которая в конечном счете была ей необходима для поисков собственных, отличных от расхожих и актуальных для настоящего момента, нравственных и эстетических ценностей:
Другой важной для творчества писательницы темой становится положение арабской женщины, которой с самого ее рождения традиционное арабское общество навязывало собственные ценности и предрассудки, не позволяя распоряжаться самой собой и чувствовать то, что она на самом деле чувствует. Иными словами, традиционные ценности для арабской женщины 1960-х чаще служили препятствием на пути к познанию стремительно меняющегося мира и самой себя, чем помогали в этом мире разобраться. Ответом ас-Самман на подобное давление становится предельно субъективная манера повествования, с помощью которой она училась — и учила других арабских женщин, своих читательниц — говорить о своих любви и горе, радости и печали, одиночестве и отчаянии и которая в конечном счете была ей необходима для поисков собственных, отличных от расхожих и актуальных для настоящего момента, нравственных и эстетических ценностей:
«„Проблема свободы в женской литературе“, широко цитируемой почти всеми исследователями творчества Гада ас-Самман. Как объясняет А. Фарадж, „боязнь опыта лишила большинство наших писательниц возможности совершить путешествие Синдбада. Выбрав благополучие и приспособленчество вместо рискованных предприятий, они продолжали писать с берега реки о русле, не искупавшись в нем и не поборовшись с его течениями. Они примирились с реальностью традиционного брака, ибо их сознание не поднялось на дрожжах человеческой культуры и боевого опыта... Материальная сторона жизни улыбается этим буржуазкам всеми соблазнами... С них слетели ястребиные крылья, и они упали в домашний курятник.“
<...>
Героини новелл Гады ас-Самман бунтовали против угнетающей атмосферы деспотизма и косности в области семейных отношений, царящих здесь традиционных устоев, находя в образовании инструмент эмансипации и оружие, обеспечивающее им экономическую самостоятельность и достойную человеческую будущность, утверждая тем самым свое право на жизнеустройство и волю к свободе» (Наталья Шуйская, «Поэтесса рассказа»).
Еще одной крайне актуальной темой для ас-Самман с самого начала ее литературной и журналистской деятельности становится война, которая после израильской оккупации 1948 года и изгнания палестинцев с их земель (Накбы) пропитала собой атмосферу общественной жизни всего Ближнего Востока. С середины 1960-х ас-Самман много пишет о литературных произведениях западных авторов (в том числе русских), затрагивающих военную тематику. Впоследствии эти статьи войдут в сборник литературной критики «Гражданка, одержимая чтением», в котором теме войны будет посвящено три главы под одинаковым названием «Война — героиня этих повествований». Примечательно, что в двух из них речь идет о гоголевском «Тарасе Бульбе», в котором, согласно Шуйской, ас-Самман находит подтверждение важным для нее выводам, сделанным по прочтении многих произведений зарубежной литературы, а именно:
«...все крупные писатели, на протяжении истории, ненавидя и отвергая войну в принципе, показывая ее ужасы и непереносимые тяготы, «оправдывали ее в том случае, если она являлась единственным средством вернуть человеческое достоинство», если война — «выжигание огнем как единственное лечение, последнее средство, подобное прижиганию и ампутации». Для писательницы справедливая война — это «путь к миру, поскольку в мире волков мирная жизнь — привилегия одних только сильных». «Война — цена, которую уплачивают за мир, а мир слабых — это всего лишь передышка для врага, во время которой он собирает силы для новой агрессии»» (Наталья Шуйская, «Поэтесса рассказа»).
В то же время не менее важной для ас-Самман темой всегда была любовь, которая, несмотря на атеистические и антиклерикальные взгляды писательницы, из-за своей всеобъемлющей природы имеет для нее едва ли не религиозное значение. Учитывая, что далеко не всякая война справедлива и далеко не всякая война может быть расценена в качестве «выжигания огнем как единственного лечения», рассмотренная через призму любви, она обнаруживает свою чудовищно абсурдную подоснову, которую ас-Самман отмечает, например, анализируя произведения американского писателя Марио Пьюзо:
«Сопоставляя ад в „Божественной комедии“ Данте и ад в романах Пьюзо, писательница подчеркивает, что Пьюзо „показал нам, что ад людей, именуемый войной, более безобразен и дик, чем ад богов“. „Темную арену“ писательница считает „удивительным художественным произведением“, в котором автор проявил себя „настоящим художником, духовным сыном Достоевского“. Такая параллель подтверждается и эпиграфом, не случайно, на ее взгляд, взятым автором из романа „Братья Карамазовы“: „Что такое ад? Это когда утрачивается способность любить“» (Наталья Шуйская, «Поэтесса рассказа»).
Однако любовь, рассмотренная сама по себе, для ас-Самман прежде всего означает «страсть, которая возносит человеческий дух к горным вершинам невинности и ностальгии». И даже несмотря на общую пессимистическую тональность ее художественных текстов, писательница часто прославляет в них это чувство и «празднует единство двух влюбленных в постели абсолютной искренности».
Наконец, невозможно не отметить и просто смелость, взвешенность и неординарность суждений ас-Самман относительно актуальной ей западной литературы. Например, в этом отношении любопытна оценка писательницей творчества Джона Стейнбека:
«По поводу творчества Нобелевского лауреата (1962) американского прозаика Джона Стейнбека Гада ас-Самман безапелляционно заявляет, что он еще до смерти „умер от литературного удара [паралича]!“. „Сын долины Салинас, создавший повесть „О мышах и людях“ (1937), жил человеком, а умер мышью“. По строгой оценке Гады ас-Самман, этот Нобелевский лауреат „не озарил [мир] подобно Достоевскому, Мильтону, Горькому, Фолкнеру“» (Наталья Шуйская, «Поэтесса рассказа»).
Закончив магистратуру Американского университета в Бейруте, Гада ас-Самман в 1964 году отправляется в Лондон для работы над докторской диссертацией, которая останется незаконченной, и в течение нескольких лет путешествует по Западной Европе, продолжая работать корреспондентом ливанских изданий. В 1965 году у ас-Самман выходит второй сборник малой прозы «Нет моря в Бейруте», написанный во время жизни в этом городе. За ним практически сразу следует еще один сборник рассказов под названием «Ночь чужеземцев», отражающий опыт жизни ас-Самман за границей. А в 1966 году, когда ас-Самман еще находилась в Европе, умирает ее отец, Ахмед ас-Самман, после чего на родине ее приговаривают к трем месяцам тюрьмы:
«Причина приговора, — объясняла ас-Самман в своей книге мемуаров, — реакционный закон, осудивший меня за то, что я, имея диплом о высшем образовании, оставила свою работу в Дамаске и уехала без специального разрешения. А я не имела никакого представления о том, что существует такой закон... Я была в точности, как арестованный Кафки, осужденный за преступление, о котором он понятия не имел. Может быть, в то время я действительно не хотела возвращаться, но, несомненно, я желала, чтобы оставалась сама возможность возвращения!» (Наталья Шуйская, «Поэтесса рассказа»).
После чего происходит окончательный разрыв ас-Самман с родственниками:
«Повод, по словам Гады ас-Самман, был „пустяковым“, настоящей же причиной стало ее желание полной свободы и независимости, а также решение родни оставить ее без материальной поддержки. К тому же, признается Гада ас-Самман, „дамасское буржуазное общество считало меня в те годы погибшей женщиной. Итак, все было против меня: семья, общество, закон“. Только в начале 1970-х годов, когда в Сирии объявили всеобщую амнистию, было отменено судебное решение и по „делу“ Гады ас-Самман» (Наталья Шуйская, «Поэтесса рассказа»).
Следующим потрясением для писательницы, как и для многих представителей ее поколения, становится поражение арабских государств в Шестидневной войне. Ему она посвящает статью «Я несу свой позор в Лондон» и на шесть лет перестает писать художественные тексты, однако продолжает трудиться в журналистике. В конце 1960-х ас-Самман возвращается в Бейрут, где продолжает работать над статьями, переводит иностранные книги на арабский язык и постепенно возвращается к художественной прозе — в 1973 году выходит ее четвертый сборник «Гибель старых гаваней», который некоторые критики считают одной из самых важных ее книг. В ней ас-Самман размышляет над дилеммой арабского интеллектуала своего времени и описывает неразрешимый конфликт между его мыслями и действиями. За «Гибелью старых гаваней» следует первый роман ас-Самман — «Бейрут ‘75», в котором она описала социальные проблемы города и предрекала их скорую катастрофическую развязку.
Так в итоге и происходит. Что, в общем, немало удивило саму писательницу. Отсюда — часто появляющийся в «Кошмарах Бейрута» образ гадалки, которая отчетливо видит грядущие катастрофы, но совершенно не понимает, что с этим делать:
«Гадалка Хатун проснулась от страшного взрыва. Кровать под ней ходила ходуном. Не понимая, что случилось, она бросилась в гостиную, где обычно принимала клиентов, и от ужаса застыла на пороге.
В гостиной происходили невероятные вещи. Магический стеклянный шар, по которому она угадывала будущее, то вспыхивал, освещая комнату ярким светом, то снова погружался в темноту. Внутри шара с грохотом что-то рвалось, разбрасывая во все стороны красные, синие и зеленые огни... Гадалка Хатун хотела было выскочить из комнаты, но какая-то неведомая сила приковала ее взгляд к шару, и она так и замерла на пороге, не отрывая от него завороженных глаз.
Внутри шара она увидела кусочек земли с заснеженными, покрытыми кедровыми рощами горами и лазурным побережьем. Земля эта была охвачена огнем; глубокая трещина расколола ее на две неравные части. Мощные взрывы следовали один за другим — трещина расширялась и ползла все дальше и дальше, угрожая перекинуться на соседние земли. Гадалка Хатун на цыпочках приблизилась к шару, чтобы получше разглядеть, в какую сторону движется смертоносный ураган, но в этот момент стеклянный шар вдруг покатился по столу и, грохнувшись на пол, разлетелся миллионами огненных брызг».
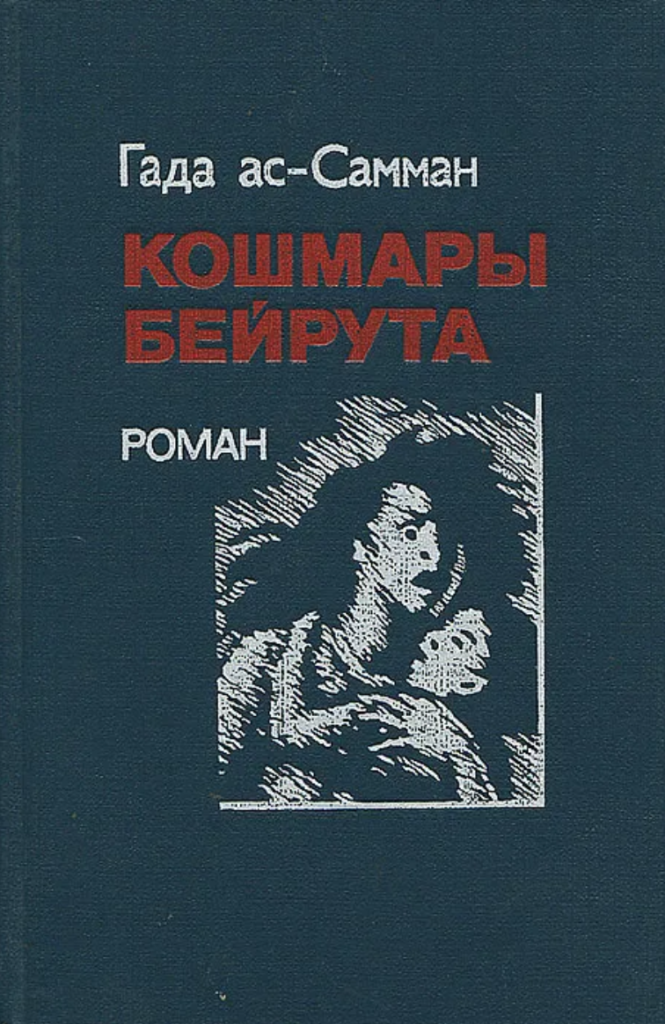 И поскольку мы наконец вернулись к тому, с чего начали наш рассказ, — к трагическому для Ливана 1975 году, теперь можем более подробно поговорить непосредственно про роман «Кошмары Бейрута», написанный во время Битвы отелей и опубликованный в 1977 году.
И поскольку мы наконец вернулись к тому, с чего начали наш рассказ, — к трагическому для Ливана 1975 году, теперь можем более подробно поговорить непосредственно про роман «Кошмары Бейрута», написанный во время Битвы отелей и опубликованный в 1977 году.
Итак, «Кошмары Бейрута» начинается с того, что его героиня и рассказчица — alter ego самой писательницы — из-за интенсивных уличных боев оказывается запертой вместе с братом в квартире двухэтажного дома неподалеку от отеля «Холидей Инн». На первом этаже живет престарелый хозяин дома — полковник ливанской армии в отставке — вместе со своим сыном-холостяком. Спустя несколько дней брат героини пропадает, и она остается в квартире одна.
В подобных обстоятельствах субъективная манера повествования ас-Самман превращается в своего рода феноменологию войны, изменившей повседневную действительность до неузнаваемости и представившей ее в очень странном, кошмарном свете. Изначально это проявляется через логику удвоения, когда воспоминания и детали культуры и быта возвращаются в виде своих «темных», угрожающих двойников:
«Досадно. Ведь я так люблю музыку, что мне стоит лишь прислушаться на мгновение, и я тотчас могу определить любое произведение классики. Но у кошмаров Бейрута своя собственная музыка: свист пуль, грохот разрывов. Я уже заучила наизусть все партитуры этой дьявольской симфонии. Более того, я уже научилась безошибочно угадывать, какая из противоборствующих сторон ведет огонь. И в этом нет ничего странного — у каждой из сторон свое оружие, которое не спутаешь ни с каким другим. Я, например, знаю, что грохот 160-мм орудий напоминает раскаты, сопровождающие божественную колесницу, мчащуюся по грозовому небу, а сиплые звуки, похожие на вороний грай, принадлежат бельгийской или американской винтовке М-16. А если вдруг раздается дробный стук, точь-в-точь как грохот градин по жести, то это означает, что к своей сольной партии подключился пулемет».
Но понимание, что теперь все будет происходить по логике кошмара приходит к героине не сразу. «Моментом истины» для нее служит осознание того факта, что те знания о войне, которые она успела почерпнуть из книг и кинофильмов, на деле оказались практически бесполезными — причем настолько, что даже такие базовые для человеческого сознания понятия, как прямая и плоскость, в условиях уличного боя как бы приоткрывают собственную хаотическую сущность, и траектория пули уже напоминает не столько линию, сколько беспорядочно мечущуюся по пространству крысу:
«Еще одно открытие привело меня в ужас. Я всегда считала, что пуля или снаряд летят к цели только по прямой. Но осколок, ворвавшийся в мою комнату, пролетел по ней, рикошетируя, как бильярдный шар. Его зигзагообразное, лихорадочное движение опрокинуло все мои привычные представления о способах выживания. С какой стороны стреляли? Страх уступил место любопытству.
<...>
Я вдруг с пронзительной отчетливостью осознала, что смертоносный металл летит не по прямой, а зигзагами, словно крыса, перебегающая от стены к стене.
Поняла я и то, что траектория пули или осколка вовсе не обязательно проходит выше подоконника. Реальность оказалась куда сложнее поверхностных представлений, почерпнутых из детективов, романов и кинобоевиков. Мне стало ясно, что я стою лицом к лицу с врагом, которого практически не знаю. С горьким сознанием собственного бессилия я в изнеможении распиналась на диване в гостиной».
Вместе с тем выбранная писательницей откровенная манера повествования позволяет ей описывать самые неожиданные трансформации этого ужаса. Например, постепенно ей становится понятно, что, кроме оцепенения и любопытства, он способен вызвать также и экстатические чувства, что демонстрирует его трансгрессивную природу и ставит под вопрос сами границы человеческой личности:
«Я лежала в темноте, остро ощущая свое одиночество. А за окнами происходило что-то ужасное... Где-то шла перестрелка — от разрыва снарядов и мин цветные стекла то и дело наполнялись яркими сполохами и следом прокатывался гром, словно гроза невиданным дьявольской силы гуляла по округе, поливая ее железом и огнем. Было страшно, но я не закрывала глаз, непонятным образом зачарованная жутким великолепием происходящего: цветные стекла то вспыхивали, то гасли и ни на секунду не прекращался этот непостижимый огненный калейдоскоп.
Я была как человек, который летит в бездонную пропасть Ниагарского водопада и за мгновение до гибели успевает отметить в своем угасающем сознании, сколь величественно зрелище низвергающихся в бездну пенистых струй. Или скорее как человек, выбросившийся из окна небоскреба и в своем последнем полете любующийся красотой цветов на террасах мелькающих рядом этажей...»
Еще одна трагическая подробность — гибель возлюбленного героини, застреленного на одном из городских блокпостов лишь за то, что принадлежал к «неправильной» религии (причем ас-Самман принципиально не называет, к какой именно религии; вместо этого она сообщает что вера ее возлюбленного отличалась от ее собственной, но им это было неважно — в отличие от людей с оружием). Теперь он возвращается к ней в кошмарах с пулевыми отверстиями в груди. И таким образом война для героини искажает не только пространство, но и время:
«Песчинки прекратили свое движение вверх, и это означало, что время не движется вспять и прошлое не возвращается. Песок сыпался вниз, в пропасть, откуда не было возврата. Каждое мгновение нашей жизни удивительно и неповторимо. Любой жест, любое слово, любое движение или мысль никогда уже не могут повториться.
Разве что в кошмарных снах. [жирный шрифт наш. — И. П.]
Мой взор прикован к последнему подарку Юсуфа. К удивительным песочным часам. Когда он принес их мне, я думала, что песок будет вечно совершать свое предусмотренное законами физики движение сверху вниз. Я не знала, что наступит время, когда боль заглушит способность мыслить логически, и ее иглы, как шпоры, вонзятся в бока стремительных коней времени и полнят их обратно, вспять, туда, где был Юсуф. Где он остался навсегда».
Чтобы подытожить все вышесказанное, еще раз подчеркнем, что большая часть действий в романе происходит в квартире героини — в небольшом двухэтажном доме в самом эпицентре боев. И хотя героиня несколько раз выбирается в подвал зоомагазина неподалеку, чтобы помочь запертым в клетках животным, но животные тоже представляют собой как бы двойников запертых в квартирах людей, а люди — двойников запертых в клетках животных: жилой дом отражается в зоомагазине, а зоомагазин — в жилом доме.
На наш взгляд, все это говорит о том, что война в «Кошмарах Бейрута» разворачивается в логике барочных складок, хаотично, словно снующие крысы пуль, соединяющих память человека, вещи и события друг с другом и невесть с чем — с ничто, смертью, предельной инаковостью и отчужденностью. Действительность — с прошлым, настоящим и будущим — предстает в виде своего рода тонкой и деликатной ткани, которую война скомкала и подожгла с разных сторон. А мрачная и холодная квартира героини словно пресловутый барочный кабинет или нечестивая лейбницева монада, отражающая весь ужас мира. Поэтому воображаемые микрофоны теперь не подзвучивают инструменты в концертных залах, а тысячекратно усиливают предсмертные стоны людей и животных:
«Откуда-то раздался выстрел, и собака как подкошенная упала на асфальт, разорвав тишину отчаянным визгом. Каменные стены, как десятки микрофонов, усилили ее предсмертный душераздирающий вой, и он заполнил улицу, нарастая и множась тысячеголосым эхо».
Неудивительно, что все это толкает сознание героини в сторону безумия, единственным спасением от которого становится ее писательское ремесло (в то время как мужчины, ее соседи по дому — семья ливанских буржуа, отец и сын, у которых есть свой слуга — проявляют все больше трусости и малодушия, постепенно теряют человеческий облик и в итоге погибают):
«Раздраженные, противоречащие друг другу голоса разрывают меня на части. Прослушиваясь к их перепалке, я чувствую, как совершенно новый человек рождается из моей собственной плоти. Я уже не просто женщина, одиноко сидящая посреди темного коридора. Мне кажется, что я раздвоилась, растопилась и теперь существую во многих лицах.
<...>
Мое перо не могло свободно скользить по бумаге под аккомпанемент пулеметных очередей, которые, как мне казалось, вбивают в мою голову гвоздь за гвоздем... Но я продолжала писать, чувствуя, что работа отвлекает меня от мыслей об опасности, предохраняет от нервного срыва и я вновь обретаю волю к жизни и становлюсь твердой, как скала, отражающая натиск бури. Через некоторое время я уже не слышала свиста пуль: стук моего сердца, живой пульс недремлющей совести, крик души, рвущихся из темных глубин подсознания, — все это обретало вторую жизнь на белом листе бумаги. Я с возмущением писала о наших правителях, пытающихся таблеткой аспирина лечить раковую опухоль, о тех развращенных, погрязших в коррупции классах, для которых Родина — это дорожная сумка, куда можно в спешке уложить пачки ассигнаций, чтобы смыться в самый тяжелый момент.
<...>
Я была как узник в подземной темнице. Как граф Монте-Кристо, терпеливо простукивающий стены своей подземной тюрьмы, чтобы вступить в общение со своим соседом. Я была полностью отрезана от мира — требовалась огромная изобретательность и неимоверные усилия, чтобы восстановить утраченную связь. Я была как личинка, запеленутая в кокон, со всех сторон охваченный огнем».
При этом практически с самого начала нарратив романа перемежается сюрреалистическими рассказами-притчами, визионерскими видениями, поэтическими отступлениями и публицистическим анализом социальной реальности — сказываются все творческие ипостаси ас-Самман. И отдельного внимания в данном случае заслуживают именно эти притчи, передающие абсурдный ужас происходящего, которые сама писательница возводит не столько к модернистской литературе, сколько к народным сказкам и фольклору («Возможно, простые люди лучше, чем наша интеллигенция, понимают и чувствуют эти ситуации», — говорила ас-Самман еще относительно театра абсурда):
«Я вижу барана, который на своей спине везет мясника на бойню. Добравшись до места, услужливо моет огромный нож, с улыбкой подает его палачу и подломив копыта, подобострастно лижет ему сапоги. А потом весело бежит к окровавленной колоде и ложится на нее, проставляя под шею нож. И пока палач примеряется, пробует пальцем остроту лезвия, баран, широко улыбаясь, говорит:
— Я надеюсь, что стану для тебя лакомым блюдом, мой господин. Во имя племенной розни, во имя межобщинных усобиц, во имя торжества невежества, во имя цепей рабства, унаследованных мною от моих дедов, заклинаю тебя отведать моего мяса».
Кроме того, в этих рассказах-притчах мифические птицы с человеческими головами сопровождают на разодранную войной родину ушлых ливанских бизнесменов, живущих за границей; палачи возвращают себе либидо, умерщвляя невинных подростков; манекены бродят по опустошенным войной фешенебельным кварталам; Мухаммед и Христос превращаются в двух торговцев на сгоревшем рынке, пока именитый востоковед рассуждает о конфликте восточной и западной цивилизаций; дети убивают родителей, получив вместо игрушек настоящее оружие; а старик по имени Праздник вместе с веселыми птицами и животными приезжает к своей возлюбленной госпоже по имени Бейрут, но та — изуродованная и опечаленная — отвергает его. Впрочем, писательница даже в настолько трагичных обстоятельствах находит место надежде:
«— Госпожа моя, боюсь, что это конец. Ты ведь уже не так красива, как прежде.
— Я никогда не была красивой. Красоты не бывает там, где нет справедливости. Просто я носила карнавальную маску, а теперь сняла и предстала такой, какая я есть. Я снимаю с себя драгоценности, меха, перчатки и хочу смыть грим с лица, пусть даже собственной кровью.
— Госпожа моя, но ведь ты давно уже не выступаешь на первых ролях...
— Я сама отказалась быть прима-танцовщицей в кабаре под названием „Ближний Восток“. Я поднимусь из пепла и отмоюсь из крови — это мой единственный шанс не исчезнуть с лица земли.
— Госпожа моя, где та старая гостиница, в которой я обычно останавливался на ночлег?
— Родина — это не гостиница и не постоялый двор. Когда ты явишься в следующий раз, ты должен будешь жить вместе с нами, стать гражданином в стране радости и надежды. В моей стране...
Старик уложил в мешок праздничные игрушки — свирели, свистульки — и побрел на станцию. Он был грустен, и, чтобы развлечь его до прихода поезда, сова рассказывала ему всякие смешные истории.
Но старик думал о своем. Все его мысли были заняты прекрасной госпожой по имени Бейрут. Как сложится ее судьба? Умрет ли она, покончив жизнь самоубийством, или сорвет с лица дешевые маски и, словно птица Феникс, вновь возродится из пепла?»
Наконец, помимо видящей будущее гадалки, в романе часто возникает мотив «слов, превратившихся в бойцов»: ас-Самман сознает свою ответственность за происходящее, понимает необходимость вооруженной борьбы, но в то же время не может смириться с чудовищной бессмысленностью и катастрофичностью этого конфликта — абсурдное само по себе сочетание осознанной необходимости и полной бессмыслицы, из которых в конечном итоге соткана сама ткань человеческого существования:
«Каждое написанное мною слово сделалось бойцом, каждая запятая — снарядом. И сегодня на улицах Бейрута идет сражение, схватка на деле, а не на словах за те ценности и идеалы, в которые я свято верю.
Отчего же мне страшно сегодня? Половину своей жизни я честно боролась за перемены — за свободу и социальную справедливость. Отчего же вот уже неделю я с таким ужасом думаю о крови, заливающей город? Поистине сердце человека соткано из каких-то непримиримых противоречий».
В конце концов героиня, практически потеряв рассудок, все же выбирается из осады, но будущее города и страны так и остается неясным.
Напоследок отметим, что прототипом для Юсуфа, возлюбленного героини «Кошмаров Бейрута», во многом, но не во всем совпадающей с самой писательницей, мог послужить уже упомянутый палестинский писатель Гассан Канафани, убитый Моссадом в Бейруте за несколько лет до начала конфликта, — в 1960-е у них с ас-Самман был роман. Это впоследствии даже стало поводом для небольшого скандала: в 1992 году писательница опубликовала личную переписку с Канафани, вызвав множество нареканий со стороны арабских писателей и политических активистов. Согласно Наталье Шуйской, публикацию личных писем «расценили как часть заговора против палестинского народа в связи с ситуацией „тупика в Осло“ (встречей и переговорами палестинского и израильского лидеров под эгидой США в сентябре 1993 года). Некоторые читатели не одобряли писательницу за то, что она предала гласности личные послания, изобилующие признаниями в любви и страсти. Между тем Гада ас-Самман считала письма Гассана Канафани „продолжением его литературных работ“, так как он и сам публиковал их в арабском еженедельнике „Аль-Мухаррир“ (в 1966—1967) и в приложении к ливанской газете „Аль-Анвар“ в 1967—1968 годах».
От себя добавим, что ситуация кажется нам знакомой просто до боли, ведь Канафани чаще хотят видеть национальным героем (каковым он, безусловно, был) и левым ближневосточным рыцарем без страха и упрека, а не живым человеком, полным страстей и противоречий, поскольку последние слабо конвертируются в политическую валюту, но продолжает составлять саму суть всякого подлинного искусства, что, кстати, прекрасно передает проза самого Канафани.
После выхода «Кошмаров Бейрута» из печати писательница еще несколько лет оставалась в Ливане, но в итоге из-за ввода в страну израильских войск вынуждена была эмигрировать вместе с семьей во Францию. В данный момент у нее два дома — в Бейруте и Париже. За прошедшее с событий «Кошмаров Бейрута» время ее книги переводились на английский, французский, итальянский, немецкий, голландский и другие языки. А на русском не выходило больше ничего.
