Любовь и джунгли
Как полюбить несуществующие объекты: введение в плюралистическую онтологию
Кошмар влюбленного
Те, кому в жизни посчастливилось влюбляться, знают — это далеко не безобидная вещь. Помимо радостей, сомнений и страданий, любовь оказывается еще и настоящим познавательным кошмаром. Ведь в попытке объяснить, что же с ним происходит, несчастный влюбленный столкнется со множеством правдоподобных и не очень вариантов без каких-либо критериев выбора между ними. Все варианты будут по-разному толковать отношение «влюблен(а) в» — иногда противореча друг другу, иногда согласуясь, но в итоге оставив нас в полной растерянности. Скажем, в популярной литературе можно встретить такое мнение:
(1) Любовь — полностью натуральный (биологический, нейрохимический) феномен.
Конкретная форма этого феномена не так важна. Например, ею может быть сексуальное влечение. Пользуясь таким определением, можно объяснить множество явлений, связанных с тем, что называют любовью. Однако является ли это определение единственным? Опыт подсказывает, что нет. Почему бы не рассмотреть более задорный вариант, к которому ежемесячно обращаются тысячи людей, читающих свежие гороскопы:
(2) Отношение «х любит у» возникает тогда, когда существует гармоническое совпадение астрологических натальных карт.
Объяснение (2) не всем придется по душе. Но, что интересно, по весьма схожей причине, что и объяснение (1). И натуралистическая, и астрологическая модели не принимают во внимание целый пласт вещей, которые многие склонны связывать с любовью. В них нет места общим интересам и увлечениям влюбленных или трудной и продолжительной истории знакомства, порой предшествующей любви. А ведь в объяснении нуждается и существование нормативных форм, в которых выражается отношение «влюблен(а) в». Поэтому вполне закономерной оказывается позиция тех, кто считает любовь социальным феноменом. Приведем радикальный вариант этого взгляда, когда любовь полностью (а не частично) социальна:
(3) Любовь — полностью социальный конструкт.
Примером такого социального конструктивизма служит мнение, согласно которому любовь определяется социальной моногамной практикой, регулируемой институтом брака. И если в случае натуралистического объяснения (1) отношение любви описывалось в терминах естественных наук, то в случае социального конструктивизма (3) любовь могут описать социология и антропология. Как видите, дела нашего влюбленного становятся все хуже. Ему нужно простое объяснение происходящего, а вокруг только множатся странные версии, конца которым не видно. Прежде чем перейти к тому, какой урок можно извлечь из этой путаницы, я хотел бы предложить еще один вариант — как мне кажется, наиболее удачный:
(4) Любовь — это результат заклинания безумного злого колдуна.
Любовь в пустыне и любовь в джунглях
Итак, мы влюблены — и у нас есть четыре варианта объяснения этой влюбленности. Каждый из них по-своему хорош, но все ли они достаточно хороши? Чтобы ответить на этот вопрос, придется немного расширить поле исследования. Ведь чтобы сказать, чем является любовь, что она есть, придется задаться смежным вопросом: а что вообще есть? То есть обратиться к онтологии.
Предварительный ответ содержится в каждом из приведенных вариантов. Предполагая истинность того, что любовь — это результат заклинания безумного злого колдуна, как в (4), мы подразумеваем существование безумных злых колдунов и заклинаний, которые они производят (как толковать это существование — отдельный вопрос). То же касается и астрологического подхода (2), допускающего, что в вашей онтологии есть место для реально существующих каузальных отношений между звездами и людьми. Социальный конструктивизм (3), в свою очередь, не может не включать в свою онтологию существование социальных феноменов. Следует подчеркнуть, что существование — это существование в качестве чего-то хотя бы частично независимого. В отличие от противоположного натуралистического взгляда (1), подход (3) должен ввести отдельный уровень реальности — социальный — который существовал бы по своим законам и в той или иной мере независимо от всего остального.
Отдельный интерес представляет взгляд (1), согласно которому любовь — полностью натуральный феномен. Он выделяется тем, что является наиболее экономным. Для того, чтобы объяснить отношение «влюблен(а) в», ему не надо допускать существования каких-либо иных уровней реальности, кроме биологического. В отличие от следующих вариантов, которые для объяснения любви вводят новые сущности и отношения (астрологические влияния, социальные институты, волшебство), натуралистический подход ограничивается одним уровнем существования. Более того, можно пойти еще дальше, сказав, что любовь не просто натуральный феномен, но что за любовь ошибочно принимают другой натуральный феномен. В первом случае мы скажем, что любовь — это сексуальное влечение, а во втором — что такой вещи, как любовь, не существует, а есть только сексуальное влечение. Разделяя эти позиции, философы говорят о натурализме и натуралистическом элиминативизме соответственно. Впрочем, провести между ними границу порой довольно трудно.
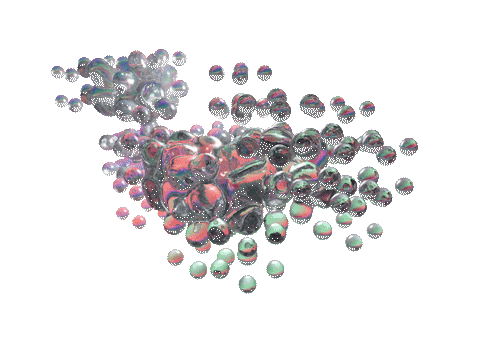 Упомянутый критерий экономии играет важную роль в построении онтологий. Допустим, мы решили создать теорию того, что есть. Чем руководствоваться при отборе кандидатов на роль того, что есть? Чем населить нашу онтологию? Закономерный ответ звучал бы так — всем. Самолетами, кварками, книгами, деревьями, собаками, супермаркетами, влюбленными парами… Список можно продолжать до бесконечности. Но уже на этом этапе мы подмечаем, что некоторые объекты обладают чем-то общим. Например, собаки, деревья и влюбленные пары — это биологические объекты, которые можно описать, используя язык биологических наук. Ричард Докинз в книге «Эгоистичный ген», утверждает, что участники естественного отбора — не виды, а гены. Если принять эту теорию, то весь разговор о процессах, руководящих поведением собак, деревьев и влюбленных пар, можно свести к разговору о поведении генов. Специфические различия видов становятся менее важными на фоне более фундаментального уровня генных механизмов. И тут мы сталкиваемся с большим онтологическим искушением: зачем допускать отдельное существование людей, деревьев и собак, когда для описания процессов, связанных с ними, достаточно допустить только существование генов? Ведь если все многообразие биологических объектов полноценно описывается с помощью единственного принципа, то свести все к генам было бы как минимум экономно.
Упомянутый критерий экономии играет важную роль в построении онтологий. Допустим, мы решили создать теорию того, что есть. Чем руководствоваться при отборе кандидатов на роль того, что есть? Чем населить нашу онтологию? Закономерный ответ звучал бы так — всем. Самолетами, кварками, книгами, деревьями, собаками, супермаркетами, влюбленными парами… Список можно продолжать до бесконечности. Но уже на этом этапе мы подмечаем, что некоторые объекты обладают чем-то общим. Например, собаки, деревья и влюбленные пары — это биологические объекты, которые можно описать, используя язык биологических наук. Ричард Докинз в книге «Эгоистичный ген», утверждает, что участники естественного отбора — не виды, а гены. Если принять эту теорию, то весь разговор о процессах, руководящих поведением собак, деревьев и влюбленных пар, можно свести к разговору о поведении генов. Специфические различия видов становятся менее важными на фоне более фундаментального уровня генных механизмов. И тут мы сталкиваемся с большим онтологическим искушением: зачем допускать отдельное существование людей, деревьев и собак, когда для описания процессов, связанных с ними, достаточно допустить только существование генов? Ведь если все многообразие биологических объектов полноценно описывается с помощью единственного принципа, то свести все к генам было бы как минимум экономно.
То же касается и неодушевленных предметов — разве что здесь использовался бы язык физики. Стоит отметить, что в философии широко обсуждается вопрос о возможности сведения биологии к физике: что, если поведение генов можно потенциально свести к поведению физических частиц, тем самым стирая разницу между неодушевленными и одушевленными объектами?
Объяснение на первый взгляд независимых вещей и процессов в терминах более фундаментальных вещей и процессов, которые управляют первыми, называется редукцией. Благодаря ей теория того, что есть, с одной стороны, не разрастается, с другой — посредством весьма небольшого набора допущений объясняет очень и очень многое. Американский философ и логик Уиллард Ван Орман Куайн называл такие теории пустынными пространствами. Действительно, в них, как в пустыне, очень мало предметов, чахлая растительность, похожие ландшафты, но при этом достаточно хороший обзор. Видно далеко, но отсутствует разнообразие.
Но что, если мы откажемся от редукции? Скажем, не будем сводить человеческое поведение к поведению генов, а книгу к физическим частицам, из которых она состоит. В таком случае с пустыней придется распрощаться. Наша онтология внезапно начнет разрастаться: наряду с генами в ней появятся люди, с людьми — культура и общество, наряду с физическими элементами книги — тексты и их смысл. И это только начало. Говоря о подобных онтологиях, часто вспоминают австрийского философа начала ХХ века Алексиуса Мейнонга, допускавшего существование многих, даже несуществующих объектов. Такие теории, развивая метафору пустыни, можно назвать джунглями. В них полно всего, все цветное, разнообразное и шумное, но обзор совсем не так хорош.
Теперь нам уже не нужно гадать, что такое любовь, произвольно выбирая различные определения. Последние можно разделить на две категории, выбор между которыми все же придется сделать: любовь в пустыне или любовь в джунглях?
Возвеселится пустыня и расцветет как нарцисс
Пустынную онтологию, хоть она сдержанная и бедная, можно предпочесть благодаря ее экономности и обозримости. Какими основаниями может руководствоваться тот, кто выбирает, наоборот, богатую сущностями и расточительную теорию того, что есть? Резонов множество, большинство из них связаны с другими теоретическими вопросами. Мы ограничимся только одним из них. Представим, что наш сомневающийся влюбленный не просто кабинетный онтолог, но еще и отважный рыцарь, совершивший череду подвигов и в итоге провозгласивший:
(5) Я сделал это ради любви.
Что он имеет в виду? Ответ зависит от того, какой теории вы придерживаетесь. Приверженец натуралистической метафизики и мнения, согласно которому любовь — это половое влечение, описывающееся биологией и эволюционной психологией, с подозрением отнесется к включению в онтологию такой сущности, как «любовь». Поэтому утверждение (5) вызовет у него сомнения и, скорее всего, будет признано ложным. Но что, если интерпретатор не хочет ставить под сомнение подвиги и искренность рыцаря? Тогда ему придется перетолковать утверждение особым образом. Исходя из натуралистической позиции, оно звучало бы так:
(6) Я сделал это ради чего-то, что является сексуальным влечением и называется «любовью».
Несмотря на то, что утверждение (6) с точки зрения натуралиста будет истинным, мы тут же сталкиваемся с рядом проблем. Во-первых, обыденный язык содержит огромное количество изначально непрозрачных фраз наподобие (5), которые будут ложными с точки зрения натуралистической позиции. Другой простой пример:
(7) Стул стоит на кухне.
Представим сторонника пустынной онтологии, считающего, что существуют только субатомные частицы (возможно, к этому его склоняют современные физические теории или эстетические предпочтения). Для него утверждение (7) окажется ложным, так как стулья — это не то, что действительно есть в мире. Пустынный онтолог скажет, что нам не нужно отказываться от традиционных представлений о стульях, однако следует помнить, что обыденные выражения вроде (7) — туманные и сбивают с толку. Но это означает, что они не могут быть буквально истинными. Буквально истинными будут утверждения, похожие на (6):
(8) Существуют некоторые х, упорядоченные, как стул на кухне.
Пустынная онтология приводит к тому, что фразы обыденного языка требуют перевода на более совершенный язык, говорящий совсем о других вещах. Тут нас настигает вторая проблема: действительно ли, когда говорят, что существуют стулья, на самом деле имеют в виду, что существуют субатомные частицы, упорядоченные, как стулья? Согласитесь, это очень странное представление. Ведь утверждая, что садится на стул, человек не имеет в виду, что садится на упорядоченный определенным образом набор частиц. Он утверждает, что садится на стул. А признаваясь в любви, далеко не всегда признаются в сексуальном влечении. Но для пустынной онтологии весь язык оказывается крайне запутанным и сбивающим с толку. Что бы мы ни сказали, все требует перевода на специфический жаргон, который только и может подтвердить или опровергнуть истинность того, о чем речь. Это довольно неестественная картина того, как функционируют наши утверждения о существующем. Более того, перевод на кажущийся строгим жаргон еще нужно обосновать. Многие философы слишком некритично принимали превращения обыденных утверждений в их более строгих логических двойников. Тогда как адекватность перевода может быть оценена преимущественно исходя из интуитивных представлений о смысле обыденных утверждений, на которые приходится опираться.
Итак, с одной стороны, любая редукция требует перевода, который является весьма проблематичным. С другой, наш обыденный язык, используемый в ежедневном общении, склонен к тому, чтобы допускать множество разнообразных сущностей и типов бытия, существующих различным образом. А это уже является свойством онтологии джунглей, или плюралистической онтологии, различных вариантов которой придерживаются нижеследующие авторы. Их книги начинаются как раз там, где мы закончили, — по-разному описывают те самые джунгли. В которых, возможно, есть место и для любви.
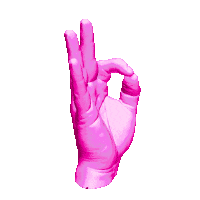
Петер Слотердайк
Слотердайка не принято читать как онтолога. Тому виной, быть может, стиль его изложения — нарочито конкретизированный, со множеством культурологических отступлений. Вопреки этому, проект сферологии, конечно, онтологичен. Во-первых, он начинается с онтологического утверждения: не существует единой области всего, в которой бы существовали объекты. Во-вторых, он посвящен выявлению того множества сфер, в которых все существует. Центральное понятие проекта Слотердайка «сфера» — пространственно-онтологическое определение, обозначающее места совместного обитания существ. В этих местах устанавливается определенный микроклимат, нарушение которого чревато последствиями — иногда фатальными для обитателей.
В противовес классической метафизике, сферы — не раз и навсегда разделенные и очерченные пространства. Они создаются, живут, лопаются, развиваются, существуют в различных масштабах. Пребывание ребенка в утробе матери — это пребывание в определенной микросфере. Связующие силы любви или гипнотическое воздействие тоже нахождение в какой-то сфере. Город, народ, империя — все это макросферы разного масштаба. А самой громоздкой сферой оказывается, конечно, тотальность всего сущего, выдуманная классическими метафизиками и представляемая в форме всеохватывающего шара. Это глобальное «все» само оказывается локальным, даже иллюзорным — свидетельством о попытке построить огромную сферу, защитившую бы нас от внешних опасностей.
Издержки: несмотря на то, что Слотердайк сознательно стирает классическое разделение регионов бытия на природное и социальное, его интересуют в первую очередь люди. «Джунгли» его сферологии во многом остаются антропоцентричными, сосредоточенными на культурных, социальных и религиозных феноменах. Там есть потенциал для преодоления таких ограничений, но эту задачу придется решать уже самим читателям.
С чего начать: работа «Сферы II. Макросферология. Глобусы» (2007), а также сборник интервью Слотердайка «Солнце и смерть» (2015).
Бруно Латур
Латур, как и Слотердайк, известен своей атакой на деление всего сущего на природу и культуру. Этому расчленению, которое объявляется главной чертой модерна, он противопоставляет антиредукционистскую онтологию вещей. Согласно ей, «ничто ни к чему не сводится». Мы оказываемся посреди кишащего объектами мира, в котором между вещами происходят определенные «испытания», выявляются победители и побежденные, устанавливаются различные сети. Последние напоминают сферы Слотердайка — с тем отличием, что Слотердайк описывает локальные, обитаемые и внутренние пространства. Сети Латура служат для обозначения глобального, связанного и внешнего.
Происходящее в мире Латур мыслит процессуально и динамично: сети никогда не находятся в покое, они постоянно испытывают друг друга на прочность, поглощают или поддаются друг другу, переплетаются и переводят друг друга. Выходит запутанная картина, но проследить движение того или иного агента легко: вступая в коммуникацию с другими, он постоянно оставляет следы и знаки своего присутствия. Главный вопрос всех сетевых контактов — это власть. Как говорит сам Латур, «все эти силы претендуют на гегемонию над всеми прочими, поглощая друг друга, запутываясь друг в друге, так что <…> вырастают настоящие джунгли».
Издержки: главной проблемой метафизики Латура оказывается то, что она не была задумана как метафизика. Изначально это специфическая исследовательская эвристика, позволявшая получать нетривиальные результаты в изучении конкретных феноменов (в частности, научных). Поэтому неудивительно, что на некоторые метафизические вопросы теория Латура просто не может ответить. К ним Грэм Харман — вероятно, главный почитатель таланта Латура-метафизика — относит проблему изменения, проблему реальности времени и ряд других смежных вопросов.
С чего начать: небольшой трактат «Несводимое», включенный в русский перевод работы «Пастер: Война и мир микробов» (2015).
Грэм Харман
Харман начинал как последователь, с одной стороны, Хайдеггера, с другой — Латура. В определенном смысле его объектно-ориентированная онтология — это попытка преодолеть ограничения их теорий. У Латура он взял идею того, что философия должна иметь дело с любым объектом, а не объектами определенного привилегированного типа. У Хайдеггера — что на самом деле объекты глубже, чем их явления, данные человеческому сознанию или практическому овладению. Это привело к идее «четвероякого объекта», структурированного по двум осям: существует различие между объектом и его качествами, но также существует различие между реальным объектом и чувственным объектом.
Харман предложил интересную типологию онтологических редукций, сводящих объект к чему-то, чем он не является. С одной стороны, существует проваливание — сведение объектов к чему-то более фундаментальному, чем они сами. Это происходит, когда мы редуцируем стулья к составляющим их атомам. С другой стороны, есть наваливание, считающее, что вещи слишком фундаментальны и что их нужно свести к чему-то более поверхностному — например, к эффектам действий или отношениям. Именно так мы делаем, сводя любовь к социальному конструкту. Избавившись от редукционистских стратегий, остается вопрос: как же познавать реальные объекты? Увы, никак. Ответ Хармана такой: «Реальное — это что-то, что нельзя познать, но можно только любить».
Издержки: метафизика Хармана критиковалась с различных позиций, основной вопрос — это статус непознаваемых реальных объектов. Действительно ли они непознаваемы? Если непознаваемы, не скатываемся ли мы в мистицизм? Откуда мы знаем, что их много, если о них ничего неизвестно? Может быть, существует всего лишь один непознаваемый объект? Причина всех этих вопросов в том, что хармановская объектно-ориентированная онтология требует радикального пересмотра самого представления о философском знании. Пойти на это, конечно, готовы не все.
С чего начать: компактная, но насыщенная работа Хармана, служащая хорошим введением в его теорию, — «Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера» (2015).