Любовь — буржуазный конструкт
Борьба с чувственностью на заре Советов
«Заняться сексом — все равно что выпить стакан воды»: с этим незамысловатым афоризмом обычно связывают русскую сексуальную революцию, последовавшую за революцией Октябрьской. Иван Белецкий — о том, почему в эту сентенцию не поверили Платонов, Гастев и другие коммунистические авторы 1920-х годов.
Еще русские олдскульные мыслители народнического склада ума признавали, что грядущая революция — путь не только к земле для крестьян или в целом к социальной справедливости. Как пишет Александр Эткинд в спорной, но важной книге «Хлыст», поиски нового социального порядка всегда связаны с поиском нового порядка сексуального. Обвинения в сексуальной распущенности — важный пункт в охранительской критике любых бунтарей и революционеров, вне зависимости от реальной подоплеки этих обвинений. «Вы так говорите, как будто это что-то плохое», ага.
В Мюнстерской коммуне обобществили женщин, а «свальный грех» — типичная филиппика в адрес хлыстов. Ну, про хиппи и «Мечтателей» мы тоже хорошо все знаем.
Но при этом сексуальная революция далеко не всегда означает революцию чувственности и половой эмансипации. Есть пути, ведущие совсем в другую сторону. Об этом, собственно, и сказ.
Итак, революция свершилась, даже Гражданская война затихла — вместе с «белыми» нарративами о комиссарских оргиях и «красными» рассказами об оргиях последних недобитых буржуев в Крыму. Какое наследие нам оставила Россия 20-х годов, кроме пресловутой «теории стакана воды», популярных в Интернете памяток комсомольцам и полуфантастических отчетов про опыты с обезьяньими тестикулами?
Если задуматься, свободная любовь и секс-раскрепощение никогда не были основой большевистской повестки касательно вопроса семьи и отношений. Даже те, кому современный фольклор приписывает разработку идей коммунистической free love, на поверку оказывались куда более сдержанными, а где-то даже ханжески настроенными. Вот, к примеру, как миленько, розовенько и высокодуховно видит будущее семьи и секса Александра Коллонтай — та самая, которая на самом деле не придумывала «стакан воды», ах:
«Каков будет этот новый, преображенный Эрос? Самая смелая фантазия бессильна охватить его облик. Но ясно одно: чем крепче будет спаяно новое человечество прочными узами солидарности, тем выше будет его духовно-душевная связь во всех областях жизни, творчества, общения, тем меньше места останется для любви в современном смысле слова».
 Дмитрий Быков*Признан властями РФ иноагентом. в предисловии к антологии «Маруся отравилась: секс и смерть в 1920-е» выделяет три типа сюжетов о путях поиска нового типа отношений в ранней истории СССР. Первый — та самая свободная любовь, сведение полового чувства до прочих инстинктов, ликвидация стыда и традиционной половой морали. Второй — вариации на тему коммун, полиамории и расхожих (в духе «православной» критики) представлений о сектах. Ага, тот самый «свальный грех» вкупе с Мюнстером. Третий пункт Быков описывает довольно абстрактно, он, кажется, самый универсальный из всех, не носящий какой-то отчетливой «большевистской» окраски: «скука, одиночество, ранняя пресыщенность и рискованные эксперименты с собственной жизнью».
Дмитрий Быков*Признан властями РФ иноагентом. в предисловии к антологии «Маруся отравилась: секс и смерть в 1920-е» выделяет три типа сюжетов о путях поиска нового типа отношений в ранней истории СССР. Первый — та самая свободная любовь, сведение полового чувства до прочих инстинктов, ликвидация стыда и традиционной половой морали. Второй — вариации на тему коммун, полиамории и расхожих (в духе «православной» критики) представлений о сектах. Ага, тот самый «свальный грех» вкупе с Мюнстером. Третий пункт Быков описывает довольно абстрактно, он, кажется, самый универсальный из всех, не носящий какой-то отчетливой «большевистской» окраски: «скука, одиночество, ранняя пресыщенность и рискованные эксперименты с собственной жизнью».
Здесь, похоже, пропущены две чуть ли не самых важных оптики. Одна из них — в виду компромиссности — в итоге и стала мейнстримом, а вторая так и осталась прибежищем одиночек и любителей странного. И обе они противоречат традиционным представлениям о «распущенных двадцатых», предлагая иное — пуританское — решение сексуального вопроса.
Политику нельзя есть, с политикой нельзя спать
Пролетарские поэты обычно не ассоциируются с любовной — и, тем паче, с эротической — тематикой. Однако именно их немногочисленные лирические тексты оказались ближе всех к идеологии пола, которая уже к середине двадцатых стала официальной, а затем и общеобязательной. Самые радикальные и последовательные из них действительно остались верны себе, или продолжая петь стремительно устаревавшие, наполненные «гражданской скорбью» гимны угнетенным рабочим времен царизма, или вообще уйдя из поэзии — как Гастев, к началу двадцатых порвавший со стихосложением.
 Но существенная часть пролетарской поэзии повернулась к актуальному и (ввиду стремительной утраты этим актуальным героичности) быстро свелась к восторженному говорению как бы высокохудожественных банальностей «про жизнь», «про труд», «про хорошее и плохое» — и в том числе на темы взаимоотношений полов.
Но существенная часть пролетарской поэзии повернулась к актуальному и (ввиду стремительной утраты этим актуальным героичности) быстро свелась к восторженному говорению как бы высокохудожественных банальностей «про жизнь», «про труд», «про хорошее и плохое» — и в том числе на темы взаимоотношений полов.
Если попытаться сформулировать главный пункт пролетлирики, то получится что-то вроде «классовое важнее полового». В идеале «тян не нужны» суровому рабочему, который строит Будущее, кует металл на Заводе и по первому Гудку идет на Смену.
Горечь победы слаже
Меда грудей твоих.
Заводы в пепельной саже
Славят мой стих.
Спайка товарищей, верных и грубых,
Дольше любовных уз.
В песнях моих в рабочих клубах
Поют про этот союз.
(С. Родов)
При этом плотские увлечения вовсе не под запретом: если секс не затмевает для тебя настоящих ценностей, то можно — умеренно, по-быстрому и идеологически осознанно — позволить себе провести ночь с коллегой. Иногда в пролетарских стихах проскальзывают даже постельные сцены. Вот, например, половая борьба Ивана Филипченко, участника литобъединения «Кузница»:
Мои ночи с тобой,
Моя Нина,
Не остыну,
Мощью, одержимостью, выступим в бой
За тебя, за счастье, за Демократию.
По сути, все это очень сильно напоминает знаменитые «12 половых заповедей революционного пролетариата», вышедших в 1924 году. Их автор — Арон Залкинд — один из первых известных советских психиатров, работавший на стыке психоанализа и марксизма отечественного образца. Получалось обычно с явным уклоном во второе:
«Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая».
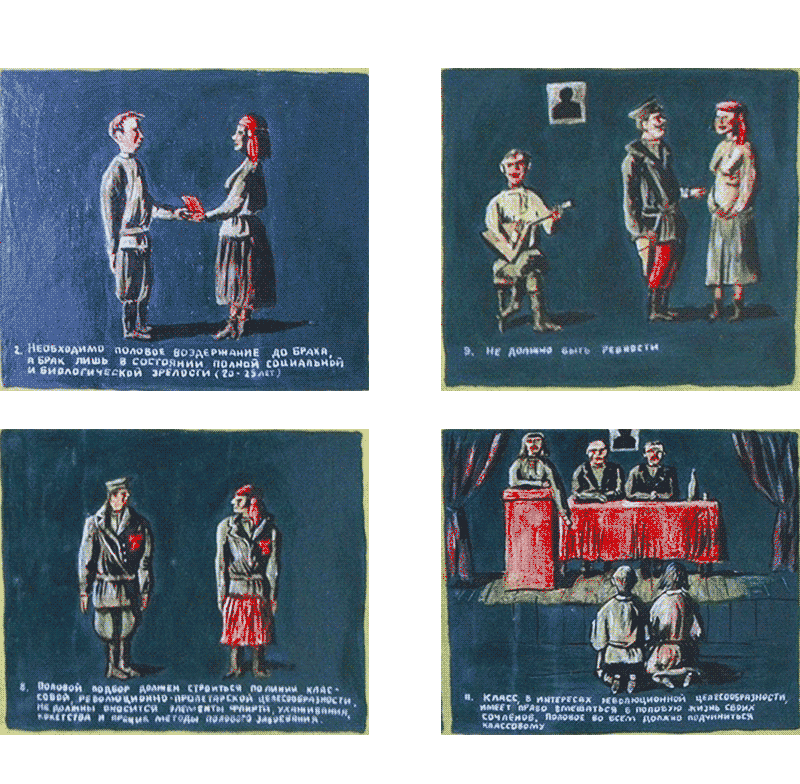 Залкинд в итоге попал под шквал критики уже в тридцатые (за свой психоанализ, а не за войну с сексуальным) и умер в опале, но до этого успел сформулировать «советскую» половую мораль: смесь общественного контроля, «глубоких и сложных переживаний» и консервативных воззрений на секс и семью.
Залкинд в итоге попал под шквал критики уже в тридцатые (за свой психоанализ, а не за войну с сексуальным) и умер в опале, но до этого успел сформулировать «советскую» половую мораль: смесь общественного контроля, «глубоких и сложных переживаний» и консервативных воззрений на секс и семью.
Интересно, как все эти воззрения на подчиненность сексуальной и семейной жизни классу и обществу перекликаются с трудами другого мыслителя тех лет — калужского чудака Константина Циолковского. Он вышел из совсем других корней, он всегда стоял как бы в стороне от любых хоть как-то связанных с реальностью проектов, в конце концов его скорее можно назвать религиозным мыслителем, а не деятелем большевизма. Но вот его идеал, его видение будущего — высоконравственного, с тотальным контролем и прикладной евгеникой:
«Целомудрие сохраняется так же тщательно, как и жизнь. Но молодые люди обоего пола сближаются без всякого препятствия и по взаимному согласию предполагают брак. Общество брак этот обсуждает. Председатель же его разрешает с правом произведения потомства более или менее многочисленного. Иногда утверждают брак, но не утверждают деторождение, если боятся плохого в каком-либо отношении потомства. Так же по согласию разводятся, но и развод утверждается председателем».
Post coitum omne animal triste est
Направление, указанное комсомолом, пролетарскими поэтами и прочими последователями умеренности и рационализма выглядело компромиссно. Понятно, что это не кардинальный переворот в половой жизни общества, а возвращение на уже накатанную колею.
Немудрено, что для самого левого, самого радикального, самого утопически настроенного постреволюционного слоя все это могло выглядеть как просто реставрация «мещанского», как уход от революционного.
В общем, на этом полюсе у нас не планово размножающиеся, пышущие моральным и физическим здоровьем девушки и парни, а нечто более болезненное, но идейно масштабное — враги сексуального как принципа. И в первую очередь, ранний Андрей Платонов.
 Если всевозможные варианты коммуны-семьи хочется сравнивать с представлениями о хлыстовских сектах, то сексуальную метафизику раскольника от большевизма Платонова придется указать в одном ряду со скопцами, раскольниками от хлыстовства. Ранние тексты Платонова («Потомки солнца», «Немые тайны морских глубин» и так далее) — настоящий гимн отказу от телесного, а порой даже от идеи любви вообще. Секс у Платонова — это какая-то с трудом выносимая метафизическая скука, отдаляющая людей друг от друга, от будущего, от бессмертия, от Человечества.
Если всевозможные варианты коммуны-семьи хочется сравнивать с представлениями о хлыстовских сектах, то сексуальную метафизику раскольника от большевизма Платонова придется указать в одном ряду со скопцами, раскольниками от хлыстовства. Ранние тексты Платонова («Потомки солнца», «Немые тайны морских глубин» и так далее) — настоящий гимн отказу от телесного, а порой даже от идеи любви вообще. Секс у Платонова — это какая-то с трудом выносимая метафизическая скука, отдаляющая людей друг от друга, от будущего, от бессмертия, от Человечества.
«И так как все будущие силы надо было сконцентрировать в настоящем — была уничтожена половая и всякая любовь. Ибо если в теле человека таится сила, творящая поколения работников для длинных времен, то человечество сознательно прекратило истечение этой силы на себя, чтобы она работала сейчас, немедленно, а не завтра».
Впоследствии отношение Платонова и его персонажей к любви и сексу становится более сложным и запутанным — хотя бы из-за того, что позитивная программа преобразования мира по дороге теряется, то есть становится непонятно, что именно мы получим взамен.
Но и в более поздних, уже совершенно зрелых работах сексуальное предстает в платоновском мире то как некий морок, форма кошмара, то как дело никчемное, животное и ведущее только лишь к грусти. По сути, полубезумное краткое сожительство Саши Дванова с женщиной из Средних Болтаев мало чем отличается от других бэд-трипов героев «Чевенгура»: от явления мертвой мамки Копенкина или Сашиной же ночевки в странном доме среди спящих вповалку людей.
«Сторож жизни Дванова сидел в своем помещении, он не радовался и не горевал, а нес нужную службу.
Опытными руками Дванов ласкал Феклу Степановну, словно заранее научившись. Наконец руки его замерли в испуге и удивлении.
— Чего ты? — близким шумным голосом прошептала Фекла Степановна. — Это у всех одинаковое».
Конечно, будет слишком общим местом указание, что отношение к вопросам пола у Платонова — отчасти наследие отца русского космизма Николая Федорова. Интереснее упомянуть, что Платонов в этом был не одинок.
Василий Чекрыгин — художник объединения «Маковец» и немного писатель, вероятно, самый последовательный и ортодоксальный федоровец. В 25 лет жизни уместились учеба в МУЖВЗ, война, служба в комиссии по охране художественных ценностей и нелепая гибель под колесами поезда.
Пока человечество плодится и размножается, пишет Чекрыгин, мы заперты в нашей никчемной цивилизации, мы творим хаос и страдания. Энтропия растет, да. От всех рождений, смертей, перерождений, от всей сверкающей, звенящей и пылающей — домой, да. К мертвым отцам.
«И мертвые организмы построил человек, подобия фаллусов — орудия, митральезы, пулеметы, ружья, извергающие не семя жизни, а подобия семени — пули, разрушающие лики братьев человека, разрушающие человека.
Беспрерывный брачный пир, непрочное рождение от несовершенства защищает человек (ибо рождает человек в несовершенстве полноты, передает в следующий временный ряд жизнь незавершенную)».
(Василий Чекрыгин, «Хаос — работа человека»)
А закончим мы, наверное, текстом, который формально не относится к двадцатым — он датирован сентябрем 1931 года, — но расставляет последние запятые в проекте «Антисексус». И, кажется, в проекте «Ад — это другие» тоже. И вообще во многих модернистских проектах. Речь о стихотворении Александра Введенского «Куприянов и Наташа».
Синопсис: Куприянов и Наташа провожают гостей, собираются заняться сексом, долго и подробно раздеваются, им становится скучно и тошно, они с отвращением удовлетворяют себя каждый самостоятельно, Наташа превращается в лиственницу, Куприянов исчезает. «Природа предается одинокому наслаждению».